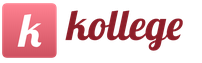Структурно-смысловая общность, текст двух или более участников речи. Д.е. обеспечивается наличием одной темы, согласием или несогласием собеседников. Д.е. – последовательность взаимосвязанных реплик, объединенных:
1) накоплением информации по данной теме;
2) мотивированностью форм;
3) сцеплением, опорой на предыдущую или последующую реплики.
Связь реплик осуществляется:
1) в виде цепочки взаимосвязанных словоформ;
2) через параллельность, однотипность строения.
- - группа крайне правых меньшевиков-оборонцев, б. ликвидаторов, руководящую роль в к-рой играли г. в. Плеханов, А. Ф. Бурьянов, Н. И. Иорданский и др. Группа "Е." зародилась в 1914, организационно оформилась в...
Советская историческая энциклопедия
- - "", группа меньшевиков-оборонцев. Возникла в 1914, оформилась в марте 1917. Лидер Г. В. Плеханов. Поддерживала Временное правительство в ведении войны "до победного конца". Издавала газету "Единство". Распалась летом 1918...
Русская энциклопедия
- - понятие, разработанное М. М. Бахтиным применительно к его теории полифонического романа...
Энциклопедия культурологии
- - "" 1) группа меньшевиков-оборонцев. Возникла в 1914, оформилась в марте 1917. Поддерживала Временное правительство в проведении войны «до победного конца». Издание газеты «». Распалась летом 1918...
Политология. Словарь.
- - Двусторонний канал связи, при котором адресант и адресат меняются ролями...
Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило
- - построенное как вопросно-ответное сочетание реплик. Вопрос адресанта сменяет ответ адресата речи, задача которого – выбор информации для сообщения ее собеседнику...
Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило
-
Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило
-
Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило
-
Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило
- - Структурно-смысловая общность, текст двух или более участников речи. Д.е. обеспечивается наличием одной темы, согласием или несогласием собеседников...
Синтаксис: Словарь-справочник
- - Несколько реплик, объединенных одной микротемой, связанных между собой по смыслу и в структурном отношении, образующие основную структурно-семантическую единицу диалогической речи. Д.е. включает от двух до...
Синтаксис: Словарь-справочник
- - ДЕ, построенное как вопросно-ответное сочетание реплик. Вопрос адресата сменяет ответ адресата речи, задача которого – выбор информации для сообщения ее собеседнику...
Синтаксис: Словарь-справочник
- - Один из типов ДЕ, нацеленный на объединение реплик, прямо или косвенно выражающих оценку говорящим какого-л. предмета, явления или лица. Используется ряд языковых средств: 1) оценочная лексика; 2) междометия...
Синтаксис: Словарь-справочник
- - Один из типов ДЕ, не предполагающий продуктивного обмена информацией...
Синтаксис: Словарь-справочник
- - ДЕ, в котором репликой-стимулом служит прямое или косвенное побуждение, а ответной репликой является реакция на него: согласие или отказ, несогласие, запрещение. Побуждение носит разный характер: 1) мольба; 2) приказ...
Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило
"диалогическое единство" в книгах
Единство
Из книги Жан Жорес автора Молчанов Николай НиколаевичЕдинство Голландия, как и подобает стране тюльпанов, встретила делегатов конгресса Интернационала цветами. Один из лучших концертных залов Амстердама поражал яркостью красок: трибуна, президиум утопали в цветах; стол каждой делегации украшали хризантемы.Это создавало
Глава 1 Единство мира, единство человечества. Преодоление иллюзий разделенности
Из книги Крайон. Обретение счастья. Несчастье и одиночество – их нет! автора Шмидт ТамараГлава 1 Единство мира, единство человечества. Преодоление иллюзий
Демоническая версия игры Термин демонический является противоположностью термину монический. Монизм – греч. monos – один, единство, де-монизм – разрушенное единство.
Из книги Играющий в пустоте. Карнавал безумной мудрости автора Демчог Вадим ВикторовичДемоническая версия игрыТермин демонический является противоположностью термину монический. Монизм – греч. monos – один, единство, де-монизм – разрушенное единство. Если привести жесткий пример, то этот способ видения равносилен игре на фортепиано с использованием
Конкретное единство как единство противоположностей
Из книги Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале" К. Маркса автора Ильенков Эвальд ВасильевичКонкретное единство как единство противоположностей Итак, мы установили, что мышление в понятиях направлено не на определение абстрактного единства, мертвого тождества ряда единичных вещей друг другу, а на раскрытие живого реального их единства, конкретной связи
5. КОНКРЕТНОЕ ЕДИНСТВО КАК ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Из книги Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении автора Ильенков Эвальд Васильевич5. КОНКРЕТНОЕ ЕДИНСТВО КАК ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ Итак, мы установили, что мышление в понятиях имеет своим предметом и целью не абстрактное единство, не мертвое тождество ряда единичных и особенных вещей друг другу, а вещи в их реальном живом взаимодействии, в
2. РЕАЛЬНОСТЬ КАК ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОГО И КАК КОНКРЕТНОЕ ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ
Из книги Реальность и человек автора Франк Семен2. РЕАЛЬНОСТЬ КАК ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОГО И КАК КОНКРЕТНОЕ ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ Мы исходим из намеченного всем предшествующим основного общего отличия реальности от всякого частного определенного содержания. Последнее конституируется, как мы видели, отношением
1.13. Раскол или азиатизированное единство Америки. (Тоффлер О.: Америку ждет раскол или единство с азиатским оттенком // Независимая газета. 7 мая 1994)
Из книги Закат Америки автора Поликарпов Виталий Семенович1.13. Раскол или азиатизированное единство Америки. (Тоффлер О.: Америку ждет раскол или единство с азиатским оттенком // Независимая газета. 7 мая 1994) Мы зашли в маленькое привокзальное кафе, заказали кофе…Вы один из первых в XX веке заговорили о конце индустриального
«Единство времени, единство места»
Из книги Русская тайна [Откуда пришел князь Рюрик?] автора Виноградов Алексей Евгеньевич«Единство времени, единство места» В любом исследовании по данной проблеме, как и в правилах классического театра, требуется увязать единство времени и места действия. Как мы уже видели, Тилак готов был отнести появление ариев еще к концу ледникового периода, когда
Глава XXI. РЕЛИГИОЗНОЕ ЕДИНСТВО, НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
Из книги Людовик XIV автора Блюш ФрансуаГлава XXI. РЕЛИГИОЗНОЕ ЕДИНСТВО, НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО Усердие в интересах Господа и исповедования истинной веры - лишь только это, Ваше Величество, освящает королей. Бурдалу Драгуны за неделю обращали в то время в католичество больше протестантов, чем миссионеры за
Единство в Думе и единство вне Думы
Из книги автораЕдинство в Думе и единство вне Думы Единство вне Думы можно осуществить только одним способом, через единство рабочих ячеек, через вступление в эти рабочие ячейки всех тех, кто искренне и достойно хочет работать в пользу рабочего класса под руководством его политической
3.5.2. Диалогическое общение в процессе литературного образования
Из книги Технологии и методики обучения литературе автора Филология Коллектив авторов --3.5.2. Диалогическое общение в процессе литературного образования Ключевые понятия: диалог, диалогичность, монологичность, диалогический опыт. ПОЛЕЗНАЯ ЦИТАТА «Диалог есть единственная форма отношения к человеку-личности, сохраняющая его свободу и незавершимость». М.М.
Единство мер – единство мира
Из книги Чего не знает современная наука автора Коллектив авторовЕдинство мер – единство мира Секунда, метр, килограмм… Мы так привыкли к этим единицам системы СИ, что кажется странным вопрос: как можно измерять по-другому? Впрочем, еще есть пуды, аршины, сажени… Но кто ими пользуется? Или в далекой Англии есть футы и фунты – так это,
Из книги Водою и кровью и Духом автора Безобразов КассианЕдинство глав V и VI. Внешнее единство
ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ И ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Из книги Живое предание автора Мейендорф Иоанн ФеофиловичII Католическая церковь, как единая и вселенская. Единство живых и усопших. Приятие в единство плоти. Расширение его на мир и католическая идея. Единство любви, правды (закона) и истины (знания). Единство теоретической и практической Истины
Из книги Католичество автора Карсавин Лев ПлатоновичII Католическая церковь, как единая и вселенская. Единство живых и усопших. Приятие в единство плоти. Расширение его на мир и католическая идея. Единство любви, правды (закона) и истины (знания). Единство теоретической и практической Истины „Единственная она, голубица моя,
На правах рукописи
Мартыненко Татьяна Ивановна
Диалогическое единство: структурно-семантический и коммуникативно-прагматический аспекты
Специальность 10.02.01. - русский язык
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Ростов-на-Дону - 2005
Работа выполнена на кафедре русского языка и теории языка Ростовского государственного педагогического университета
Научный руководитель: доктор филологических наук,
профессор Малащенко В.П.
Официальные оппоненты:
Ведущая организация
доктор филологических наук, профессор Колесников Н.П.
кандидат филологических наук, доцент Лыкова Т. В.
Ставропольский государственный университет
Защита состоится «25» марта 2005 года в 13 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.206.01 в Ростовском государственном педагогическом университете по адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 33, ауд. 202.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ростовского государственного педагогического университета.
Ученный секретарь диссертационного совета
Григорьева Н.О.
Данное исследование посвящено комплексному и многоаспектному описанию диалогических единств (ДЕ) современного русского языка как структурных единиц текста, обеспечивающих динамику произведения художественной литературы или публицистики.
Изучение языка в его динамике предполагает прогрессирующее расширение синтагматической базы исследования, вплоть до обращения к завершенным речемыслительным произведениям, текстам и их составляющим - сверхфразовым единствам (СФЕ) как монологическим, так и диалогическим. Но в большинстве своем исследования в сфере лингвистики текста направляются на изучение структуры, семантики и функций сложных синтаксических целых (ССЦ), представляющих собой авторские монологи. Диалоги в этом случае рассматриваются лишь как своеобразное «вкрапление» в текст рассказа, описания или рассуждения, которое служит средством репрезентации т.н. «персонажного плана» этих функциональных разновидностей речи. Как самостоятельный предмет исследования диалоги выступают в работах по разговорной речи.
Изучением диалога занимались многие отечественные лингвисты (Л.В.Щерба, Л.П. Якубинский, Г.О.Винокур, Н.Ю.Шведова и др.). Интерес к проблемам диалога не ослабевает и в наши дни. Лингвисты стали больше внимания уделять изучению диалогических отношений в силу того, что они, буквально, пронизывают все, что связано с деятельностью человека. Это нашло отражение в ряде интересных и глубоких исследований отечественных ученых (Н.Д. Арутюнова, ААЛеонтьев, А.Н.Баранов, Г.Е. Крейдлин, Е.В.Падучева, Д.И. Изаренков, И.Н.Борисова, С.ГАгапова и др.).
Интерес ученых к диалогу объясняется необходимостью углубления и конкретизации лингвистических представлений о принципах и закономерностях использования языка человеком. Эта потребность, в свою очередь, диктуется очевидной необходимостью качественного обучения языку и более широко - необходимостью повышения гуманитарной и, в частности, филологической культуры общества.
Мы исходим из предположения, что решение указанных задач возможно в русле антропоцентрического подхода к анализу единиц языка. А это предполагает необходимость исследования самого языка как развивающейся диалогической системы, в центре которой находится человек с его коммуникативными потребностями. Следовательно, ДЕ должны интерпретироваться исследователями текстовых единиц как самостоятельный объект исследования, обладающий специфическими свойствами как структурно-семантического, так и коммуникативно-прагматического плана. Однако эти свойства ДЕ не были предметом специального исследования; недостаточно изученными являются ДЕ и с точки зрения их статуса, типологии и делимитации.
Изучение диалога и особенно диалогической речи в тексте художественного (или публицистического) произведения может быть более результативным и эффективным в том случае, если, во-первых, он исследуется в тесной связи с речевым поведением участников коммуникации, во-вторых, единицы диалога рассматриваются комплексно, в-третьих, учитывается характер взаимосвязи и взаимодействия диалогических цепочек и монологических единств.
Необходимость ориентации на многоаспектный подход к исследованию реплик, ДЕ и единства в целом, включающий структурно-семантический, коммуникативный и прагматический аспекты изучения этих фрагментов текста, продиктована уверенностью в том, что получить положительный результат можно лишь при всестороннем рассмотрении исследуемых явлений.
Объект исследования - диалогическая речь.
Предмет исследования - диалогические единства как компонент художественного и публицистического текста.
Определить структурно-семантические особенности реплик-стимулов и реплик-реакций, а также средства формирования цельности и связности ДЕ;
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые ДЕ проанализированы комплексно в структурно-семантическом и коммуникативно-прагматическом аспектах; впервые реплики диалога рассматриваются с позиций выявления их интенционального и тексто- и смыслообразующего потенциала в письменной речи. В диссертации впервые предпринята попытка рассмотрения различных планов взаимодействия пропозициональное™ и модальности (объективной и субъективной) реплик и ДЕ в целом, с одной стороны, и конситуации, с другой, в актуализированной прозе, характеризующейся т.н. «рубленым синтаксисом». Новизна усматривается и в попытке выявить роль реплик и ДЕ в целом в осуществлении связности как самого единства, так и авторских монологов с ДЕ.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней уточняется понятие «диалогическое единство», а также типология ДЕ, участвующих в формировании текстов разных функциональных типов в произведениях современной художественной литературы и публицистики, приводятся дополнительные доказательства положения о том, что диалогизация текстов весьма продуктивный способ использования потенциала разговорной речи. Благодаря этому достигается «раскрепощенность» стиля: обилие неполных предложений, скрытых смыслов и других средств, в частности диалогической цитации, способствующих тому, что увеличивается количество перлокутивных речевых актов, результатом чего является активизация речевого воздействия на читателя.
1. Формирование реплик диалога и ДЕ в целом как фрагмента художественного или публицистического текста обусловлено интенциями участников коммуникации, наличием зоны пересечения макро- и микропресуппозиций.
При этом интерактанты исходят из того, что потенциальная структурная и семантическая соотнесенность реплик прогнозируется валентностями текстового окружения. Лексико-семантические узлы предтекста задают темы (и микротемы) реализуемого смысла высказываний и соответствующие границы ДЕ, которые квалифицируются по количеству реплик и смысловых взаимоотношений между ними. Невербализованное звено реплик как тексто- и смыслообра-зующий элемент ДЕ оказывается чаще всего «сильным» и значимым фактором, обеспечивающим успех коммуникации. ДЕ представляются репликами-стимулами и репликами-реакциями, выраженными различными типами предложений по цели высказывания. При этом сохраняется целостность ДЕ.
3. Функционально-прагматические разновидности ДЕ предопределяются объективной модальностью реплики-стимула (ирреальная модальность - либо вопросо-ответное единство, либо единство с репликой-стимулом побудительным предложением, а реальное единство с репликой-стимулом повествовательным предложением), что касается модальности реплик-реакций, в каждой из трех разновидностей ДЕ, то они активно варьируют в диапазоне объективной модальности реальность - ирреальность. В русском языке выделяют по три разновидности ДЕ (для реализации речевых
актов: побуждения, поиска информации, сообщения), а также единства диалогической цитации и с различными комбинациями и переплетениями речевых актов в репликах многочастных ДЕ.
4. В основных типах речевых актов используются различные структурные и функциональные типы реплик-стимулов и реплик-реакций,которые обеспечивают разноплановость и разнонаправленность диалогов.
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации отражены в девяти публикациях. Их содержание изложено на региональных и международных конференциях: «Актуальные проблемы общей и адыгской филологии» Международная научная конференция. Майкоп. 2003; «Язык. Дискурс. Текст» Международная научная конференция. Ростов н/Д. 2004.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, содержит список научной литературы и список литературных источников.
Во введении обосновывается тема, актуальность и новизна исследования, намечается цель и формулируются задачи, определяются объект и предмет анализа, характеризуются материал и методы анализа, раскрывается
теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретические основы исследования» содержится обзор основных проблем, связанных с изучением ДЕ. Рассматриваются теоретические положения, концепции и подходы к изучению диалогической речи.
Современные исследования диалогической речи едва ли возможны без анализа отдельных актов диалога. Отправным моментом в исследовании диалогической речи явилось высказывание Щербы Л.В. о том, что подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге.
Бахтин М.М., намечая обширную программу будущих исследований гуманитарных наук, указывает на необходимость решения таких задач, как своеобразие природы диалогических отношений, сущность внутреннего диа-логизма, рубцы межей высказываний, двуголосие слова, понимание диалога. Диалогичность в широком смысле рассматривается как условие жизни человека, как предпосылка существования человеческого общества.
В трактовке диалога в узком смысле слова, в понимании его сущности, специфики, его соотнесенности с другими явлениями наметилось определенное единство взглядов. Диалог понимается как функциональная разновидность речи, вид речи, тип коммуникации, реализация которой создает особый тип текста; диалог в узком его понимании характеризуется набором следующих дифференциальных признаков: наличие не менее двух собеседников; обязательная смена говорящих; понимание языка, на котором ведется диалог, и того, что участники диалога видят, по меньшей мере, слышат друг друга, хотя наблюдается иногда и случаи, когда от непосредственного восприятия «отпадают» весьма важные зрительные восприятия; например, при диалогическом общении в темноте, по телефону, через закрытую дверь. Как особый случай можно рассматривать форму диалогического общения путем «записочек». Диалогическая речь, как правило, характеризуется необходимостью подражать устной речи и воспроизводить ее нормы, т.е. структурные особенности устного речевого высказывания.
Что качается определения единицы диалога, большинство исследователей в качестве базисного принимает понятие «диалогическое единство» (ДЕ), введенное впервые Шведовой Н.Ю. В составе диалогической цепи выделяются прежде всего «единства», состоящие из двух, трех и более реплик, т.е. так называемые двучленные, трехчленные и многочленные диалогические единства. Все высказывания по их роли в организации диалога подразделяются на инициирующие (стимулирующие) и реагирующие реплики. Под репликой понимается речевой элемент цепочки взаимосвязанных высказываний-предложений, принадлежащий одному из собеседников и продолжающийся до тех пор, пока не прервется либо самим говорящим, либо речью его собеседника.
Объединение в линейной цепи диалога двух пограничных реплик диалога по определенным правилам семантической и прагматической зависимости и образует особое сверхфразовое единство текста, коммуникативную единицу диалога, называемую диалогическим единством.
В процессе речевой деятельности каждый участник коммуникации выступает одновременно и как объект восприятия, и как субъект планирования и порождения дискурса, в сознании которого происходит обработка информации в направлениях «от смысла к тексту» и от «текста к смыслу». Каждое новое высказывание лишь продолжает диалог, и все сказанные до этого высказывания образуют интерпретационную рамку для последующего высказывания.
Таким образом, основной единицей диалога следует считать диалогическое единство, которое представляет собой связную последовательность речевых действий, образующих разновидность сложного речевого акта - интерактивное диалогическое действие.
ДЕ представляет собой комплекс высказываний, взаимосвязанных друг с другом не только в структурно-композиционном, но и смысловом и функциональном отношении. Между репликами ДЕ устанавливаются отношения «стимул-реакция». Способы выражения исходной реплики в значительной степени определяются коммуникативной интенцией инициатора диалога и могут быть представлены высказываниями различных структурно-коммуникативных ти-
пов. Ответная реплика формирует целостный семантический план диалогического единства. Прагматическая функция речевого акта характеризует его как акт воздействия говорящей личности на среду, себя саму и адресата.
Неизбежным оказывается включение в сферу анализа конкретного речевого контекста и учет таких параметров коммуникативной ситуации, как место и время общения, а также личностные характеристики адресата и адресанта.
Возникает вопрос о выявлении механизмов удачной интерпретации слушающим намерения говорящего. С позиций слушающего важно адекватно декодировать полученное сообщение с учетом множества составляющих данного сообщения.
Структурно-композиционный анализ ДЕ позволяет сделать вывод о том, что текст диалога отражает столкновение интенций его участников. Поэтому для устной коммуникации целесообразно учитывать проблемы личностных отношений.
Одним из важнейших компонентов диалогической речи является ее объективная модальность как существенный конструктивный признак каждого предложения, содержащий в себе указание на отношение содержания высказывания к действительности, а также субъективная модальность как отношение говорящего к сообщаемому. Категория модальности представляется как управляемый и осуществляемый говорящим процесс выбора имеющихся в распоряжении языка средств.
Тематическая целостность ДЕ составляет необходимое условие взаимопонимания партнеров по общению, установления контакта между ними, реализации различных интенций.
Основная семантическая характеристика диалога - указание на коммуникативную цель заключена в значении составляющих диалогическое единство пропозиций. Без коммуникативной цели диалог не может функционировать как единица речи.
Во второй главе «Структурно-семантическая специфика диалогических единств» представлен системный анализ структуры и семантики ДЕ.
Они являются формой интеракции двух или нескольких собеседников, которые обмениваются репликами-высказываниями, представляющими собой стимулы к реакциям или реакции на стимулы, в результате чего говорящими создается определенный общий контекст; инициирующая диалог реплика реализует стимулирующую валентность, которая обусловливает появление у собеседника ответной реакции в виде речевого или неречевого поведения. Семантический потенциал диалогической валентности предопределен пресуппозициями, лексико-семантическим наполнением реплики-стимула, ее тема-рематическим представлением и смысловой соотнесенностью с пред-текстом. Текстовая валентность «работает» на реализацию категории связности в равной мере как в монологических тестах различной функциональной нагруженности, так и в диалоге. Но в репликах последнего, наряду с неполнотой, координацией, инверсией и прономинальностью, более активную роль в подчеркивании статуса последовательности играет фактор смены и взаимодействия разных речевых актов: утверждений, вопросов, приказаний, советов и т.д. Валентность реплики-стимула в целом или ее части может «работать» на развитие заданной темы.
Становление ДЕ в тексте художественного произведения или другого функционального типа текста происходит под влиянием и на базе пресуппозиции и задается интенциями говорящего.
С точки зрения общего контекста, создаваемого комплексом реплик, ДЕ в структуре монологического текста, отделяемое от монолога автора, квалифицируется как определенная разновидность связного текста по количеству реплик и смысловым взаимоотношениям между ними. В зависимости от их функции в диалоге, естественно, выделяются инициирующие реплики или их сегменты, выполняющие роль стимулов к последующим вербальным реакциям, т.н. реагирующим репликам. Для диалогических единств характерны основные текстовые категории, позволяющие интерпретировать ДЕ как композиционные элементы всего текста, обладающие, однако, специфической структурой и свойствами единицы личностно ориентированного общения, в
основе которого лежит обязательная реализация адресантных и адресатных средств репрезентации коммуникативно-прагматической оси «Я - Ты»: -Рыбки не купите?//- Рыбы? Я сейчас скажу. (Шолохов М.). Типичными моделями ДЕ являются двучастные микродиалогические единства и многочастные, состоящие из трех и более реплик. В работе выявлено, что условно границами двучастных единств является либо целиком каждая монофункциональная реплика (или стимул, или реакция), либо граница довольно отчетливо определяется и авторскими ремарками. Это положение распространяется и на многочастные единства: - Мы вычислили его!// - Ты уверен?// - Так точно!// - Ну и где он?// - В поселке Клязьминский.// - А точнее? - В трубке поперхнулись.// - Точнее пока сказать не могу.//- А чего же ты мне звонишь?//-Мы ведем проверку конкретных адресов: где он может быть. Через пару часов мы его точно вычислим.// - Вот когда вычислишь, тогда и звони. Не дергай меня по пустякам. Понял, олух царя небесного?!// - Так точно, - растерянно протянули в трубке. (Литвиновы А.В. и СВ.).
В монологических текстах наиболее употребительны ДЕ," состоящие из трех и более частей. В любом произведении «чистый» диалогический текст вне видимой структурной связи с монологическим предтекстом и без опоры на него может восприниматься как нечто неожиданное. Поэтому читателю приходится искать соответствующие опоры для его понимания. Структура и семантика высказывания предопределяются интенциями, языковой и коммуникативной компетенцией говорящего, наличием общего знания у обоих участников коммуникации.
Более сложные ДЕ могут состоять из нескольких реплик, количество которых определяется необходимостью мены коммуникативных ролей, обусловленной стремлением интерактантов достичь полноты раскрытия заявленной темы. Протяженность многочастного ДЕ того или иного функционального типа зависит от характера реализации текстуальной валентности, степени раскрытия темы и микротемы; от намерений коммуникантов и их стремления к достижению успеха в коммуникации. Границей такого ДЕ мо-
жет быть реплика-отказ, реплика-реакция, обусловливающая или завершение диалога, или переход к другой функциональной разновидности. Т.о., развитие темы, смена микротем диалогов (и полилогов) связана с трансформациями и меной текстуальной валентности, инициируемых не только репликами-стимулами, но и репликами-реакциями. Причем это происходит при формировании новых семантических узлов на базе определяющих лексем и сло-форм в составе реплик и в монологе автора, которые влияют на структуру и функциональную специфику высказываний. Развитие диалога и монолога как определенных текстов в письменной речи осуществляется во взаимосвязи и взаимодействии этих обеих форм письменной речи.
Анализ ДЕ дает возможность раскрыть как особенности структур, так и функционально-смысловое ядро реплики, представляемое конкретным сегментом, по отношению к которому определяются смысловые функции остальных сегментов.
При обращении к большинству диалогов не только в разговорной речи, но и в драматургических, художественных и публицистических текстах бросается в глаза наличие ДЕ, характеризующихся краткостью реплик-ответов и реплик-стимулов: - Легчает?// - От грудей тянет Сердцу, ку-быть, просторней...// - Пьявки - первое средство!// - Степан, словцо бы сказать хотел// - Говори // - Поди на-час// - Ну, выкладывай (Шолохов М.). Такие диалоги - наглядная иллюстрация положения науки о так называемом «рубленом синтаксисе» актуализированной прозы.
Каждая реплика - это определенное высказывание, которое может быть представлено предложением или группой предикаций либо словоформ, или единственным компонентом, отдельным членом предложения, или нечленимым предложением, иногда даже знаком конца предложения: - Ты мог бы проще выразиться?//- ?! Реплики могут квалифицироваться как отдельная фраза, но могут представлять собой и СФЕ.
Строится подавляющее большинство реплик по законам организации моно- и полипредикативных единиц монологического текста, т.е. по типам
структурно-семантических схем простых и сложных предложений и их комбинаций. Реплика может квалифицироваться как отдельная фраза, (простое, или сложное предложение), как высказывание-нечленимое предложение, но может представлять собой и сверхфразовое единство. Однако в любом случае и развитие самой реплики-стимула, и ее влияние на появление реплики-реакции связано с реализацией сочетаемостного потенциала и ее формальной структуры и компонентов семантической структуры единицы, и отдельных семантических узлов.
Контактирующие реплики-стимулы и реплики-реакции как строевая основа ДЕ характеризуются ярко выраженной тенденцией к употреблению односоставных предложений, к минимизации вербальных средств, состоящих в использовании неполных конструкций, комбинации высказываний с именными предикатами и глагольными, членимых и нечленимых предложений и особых построений (типа «Им - да»), выступающих как специфические репрезентанты скрытых смыслов и значений, которые содержатся в семантике определенных видов предложений. В нашей картотеке представлены все возможные типы контактных сочетаний реплик-стимулов и реплик-реакций, начиная от сочетаний именных и глагольных структурных схем простых предложений и кончая сочетаниями реплик - сложных предложений и ССЦ: - Я отвезу вас домой, - предложил Куликов.//- Пожалуйста, не надо, - сказала Елена (Щербакова Г.)//- Как...как ты меня нашла?//-Я? Ну, ... просто ты не вышел из школы, я и подумала... //- Значит, ты меня выглядываешь. (Зайончковский О.)
Как свидетельствуют материалы нашей картотеки, в формировании ДЕ предпочтение отдается простым предложениям.
Результаты исследования ДЕ свидетельствует о том, что к числу ярко выраженных структурно-семантических особенностей этих текстовых единиц, кроме отмеченных выше, относятся неполнота реплик, особенно реплик-реакций, употребление нечленимых высказываний, междометий, дейк-тических компонентов (местоимений, частиц), номинативных цепочек: по-
второе лексем и словоформ, а также соотносительных на уровне парадигматики лексических единиц (синонимов, антонимов, гиперонимов и гипонимов), ЛСВ многозначных слов, лексем, объединяемых общими семами или словообразовательными связями.
Отмеченная тенденция к употреблению в составе ДЕ художественных и публицистических текстов эллиптических предложений проявляется в основном в репликах-реакциях, что не исключает использования таких высказываний и в репликах обусловливающее-обусловленного типа в многочастных ДЕ: - Парень, стой! Документы!// - Держите... Только быстрее!// - Что значит «быстрее»? От кого бежишь?//- Не «от кого», а «за кем». Девушку впереди видите?// - Это она от тебя, по лужам-то?// - Ну да.// - Что - так?// - Откуда я знаю!Любит, наверно, потому и - по лужам // - Ладно. Догоняй. (Кудасова И.). Эллиптическая реплика ДЕ с точки зрения ее информативной достаточности для успешности коммуникативного общения, несомненно, уступает структурно и семантически полной и относительно завершенной по смыслу. И все же без таких реплик не обходятся диалоги ни в устной, ни в письменной форме речи. Объясняется это тем, что они всегда употребляются интерактантами как некоторая семантическая совокупность, что позволяет не только компенсировать снижение их информативности и углубить мотивацию тех или иных аспектов смысла, но и усилить эффект воздействия речевых актов. Внешне пустое, не-вербализованное звено реплики оказывается более сильным, более значимым в выражении смысла.
Специфическое явление сугубо диалогических единств - это реплики, выражаемые так называемыми нечленимыми предложениями, которые как бы призваны быть в ответной реплике своеобразным сигналом подтверждения или отрицания того фрагмента смысла, который содержится в реплике-стимуле. Это, прежде всего слова - предложения «Да», «Нет»; модальные высказывания типа «Конечно», «Разумеется», «Пожалуйста», «Простите» и т.д.
Участие элементов ситуации, контекста, активность ассоциативного плана позволяют ограничиться кратким сжатым изложением нужного содержания.
Если обеспечено выражение логических связей - когда ясно, о чем мы судим и что устанавливается о субъекте суждения, успех коммуникации обеспечен.
В главе 3 «ДЕ в коммуникативно-прагматическом аспекте» диалог характеризуется тем, что в нем с наибольшей отчетливостью проявляется личностное начало интерактантов, отражающее взаимонаправленность реплик по линии «Я - другой» и обеспечивается успех коммуникации, а именно на это рассчитывает и надеется тот, кто инициирует дискус. Истинный смысл коммуникации, как мы видим, состоит в выражении не только интенции автора, референции и пропозиционального содержания, но и модальности и эмотивности. Кодирование адресантом и декодирование адресатом смыслового компонента в рамках диалога обусловлено прагматически, ибо предполагает отсылку к говорящему или слушающему, как главным прагматическим составляющим речевого акта, и к прагматическим пресуппозициям, общему фонду их знаний, а также учет того, как коммуниканты меняются речевыми ролями, оценивают свой диалог.
Высказывание как вариант определенного речевого акта приобретает иллокутивную силу и обеспечивает перлокутивный эффект (воздействие на адресата) не изолированно, а если оно является компонентом связного коммуникативного контекста (монологического, диалогического или смешанного)
Специфика диалогических единств с точки зрения функционально -прагматической состоит как в отчетливо выраженной целенаправленности высказываний коммуникантов, меняющихся ролями, так и в большой роли их общих фоновых знаний, микро- и макропресуппозиций. Существенную роль при функциональном анализе высказываний представляют и смысловые фантазии (прямые и скрытые смыслы и средства их организации), а также номинальные ресурсы языка для диктума и модуса: - А мы сегодня идем в гости? - спросил Игорь у нее.//- Какие тебе сейчас гости! - ответила Кира. (Гостева А.).
Особая роль в разговорном дискурсе (в связном тексте в совокупности с экстралингвистическими - прагматическими, социокультурными, психоло-
гическими и другими факторами) принадлежит прагматическим условиям, которые связаны с взаимодействием: адресант - ситуация - адресат.
Поскольку диалог предполагает равное участие в коммуникации её партнёров, в нем особенно ярко и последовательно проявляется опора на так называемые предельно насыщенные фоновые знания (общие для всех и частные, характерные для определенного микроколлектива). Эти знания объединяют адресата и адресанта и входят в коммуникацию. Е.Н. Ширяев отмечает такие существенные свойства диалога, непосредственно связанные с его дискурсом, как широкое использование неформальных связей в диалогических текстах и активность косвенных речевых актов.
Связь реплик может быть явной, формально выраженной, и неявной.
В настоящее время в литературе все чаще высказывается мнение, что есть основание говорить о двух видах смысла высказывания: денотативном и коммуникативном. Денотативный смысл - это смысл, обусловленный содержанием семантики модели предложения. Коммуникативный смысл - это тот смысл, который выражается высказыванием в конкретном случае его употребления, скажем, в данном контексте или в определенной ситуации. Он обусловлен грамматическими составляющими коммуникативного акта.
Весьма существенна для успешного протекания коммуникативного акта и способность всех его участников соотнести объект информации с единым экстралингвистическим референтом. Некомпетентность в этом вопросе кого-либо из них приводит к непредвиденному развитию событий. Нельзя сбрасывать со счетов и явное нежелание одного из них понимать другого.
В исследовании диалогов с косвенными высказываниями возможны два пути: 1) от реального значения реплик диалога, задающих его жанр, - ко всем способам, прямым и косвенным, выражения этого значения; 2) от синтаксической формы реплик диалога - ко всем тем реальным значениям в прямом и косвенном выражении с их распределением по диалогическим жанрам. Особую роль для понимания семантико-синтаксической структуры многих таких диалогов играют постулаты диалогического общения. Особый
интерес представляют постулаты мотивированности. В структурно-семантическом исследовании заложена основа изучения ответа с коммуникативно-прагматической точки зрения, потому что вывод ответа, вытекающего из сказанного, предполагает эвристическую деятельность языкового сознания адресата - восстановление им пропущенного логического звена, т.е. основан на учете коммуникативно-прагматических факторов.
Непрямые ответы на вопрос в указанном аспекте могут рассматриваться с разных сторон. Одна из таких сторон - вопрос о диапазоне варьирования непрямого ответа относительно задаваемой вопросом структуры и семантики, того варьирования, при котором непрямой ответ информативно является ответом на поставленный вопрос.
Предел варьирования семантики и структуры непрямого ответа относительно семантики и структуры, проецируемой пропозициональной функцией, определяется возможностью связать денотативный смысл ответа и актуализированную в коммуникативном акте пресуппозицию отношениями логического следования. Эта возможность, в конечном счете, обусловлена связями отражаемых в сознании коммуникантов экстралингвистических фактов.
Подчёркнутость, точнее актуализация, коммуникативных ролей адресанта и адресата в ДЕ проявляется в использовании местоимения 1 и 2 лица (в сочетании с глагольными формами или автономно), а также форм притяжательных местоимений и других средств.
Модальность ДЕ как элемента художественного произведения рассматривается в аспекте взаимосвязи не только реплик, но и единства как целого с монологическим авторским текстом.
В многочастных ДЕ наблюдается более сложное не столько взаимодействие, сколько переплетение планов объективной модальности.
В ДЕ художественного текста субъективная модальность, как правило, находит свое выражение в довольно широком диапазоне грамматических, лексических и интонационных средств, используемых тремя субъектами речи - автором произведения, и персонажами: говорящим и слушающим - для выраже-
ния отношения каждого из них к сообщающему. Причем автор использует эти средства как существенный фактор, способствующий как адекватной характеристике персонажей, их мыслей, чувств, состояния, отношений друг с другом, так и повышению выразительности перлокутивного эффекта речевых актов героев произведения: - Меня от этого с души воротит // - Не говори ей об этом, - засмеялся Кулачев, - козленочком станешь. (Щербакова Г.).
В русском языке в качестве основных, наиболее употребительных выделяются следующие типы речевых актов: информативные (сообщение о чем - либо); побуждения (просьбы, пожелания, рекомендации); вопроса (поиска информации); принятия обязательств, обещания; выражения эмоций, состояния, оценки; привлечения внимания. Соответственно и используются наиболее частотные по употреблению функциональные типы высказываний; повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные, предложения с обращениями. Особое место занимают т. н. этикетные формулы, активизирующие фатическую функцию авторов реплик диалога.
Функциональные разновидности ДЕ мы выделяем по типу реплик - стимулов и степени их воздействия на адресата.
Прежде всего мы обращаем внимание на ДЕ с репликами-стимулами, выраженными побудительными предложениями. Этот тип диалогов характеризуется широким диапазоном реплик-реакций различной семантики и целенаправленности: ответы на реплику - побуждение могут быть подтверждающими, опровергающими, вероятными: - У вас нет еды, - сказал Кулачев.// -Выпейте горячий чай. Я капнул в него коньяку. (Щербакова Г.).
Наибольшее распространение получили диалоги, в которых реплика -стимул представлена вопросительным предложением. В диалогах подобного типа выделяется такая особенность, когда на вопрос одного из собеседников следует не ответ, а вопрос, т.е. и реплика-стимул, и реплика-реакция представлены вопросительными предложениями: - На дискотеку пойдем? - спросил он с крыльца, остановленный ее взглядом// - Нет, - ответила она. - В такую-то жару. (Щербакова Г.). Широкое распространение имеют диалоги,
в которых и реплика- стимул и реплика-реакция выражены повествовательными предложениями, т.е. когда собеседники обмениваются какой-либо информацией или мнениями по тем или иным вопросам.
Термин «диалогическая цитация» относится к случаям использования реплик собеседника в иных коммуникативных целях, отличных от замысла адресанта. Цитация, по Арутюновой, подобна бумерангу. Определяющими для типизации диалогических цитации являются следующие факторы: цитатная выборка и обработка реплики, сдвоенность повтора, интонация, с которой воспроизводится реплика собеседника, коммуникативная цель цитации. Одна и та же реплика - повтор может в зависимости от испытываемых ею модификаций входить в разные разряды.
При повторе словесного состава первой реплики ответная реплика приобретает иной смысловой оттенок. Он ставит говорящего в оппозицию к собеседнику. Протест или несогласие могут быть вызваны различными причинами: - Где ты был, мерзавец?//- Где я был... Шашку тупил... (Толстой А.).
Воспроизведение чужой речи допускает отклонение от оригинала. Это живой и вольный способ реагирования, и адресат поэтому не придерживается жёсткой нормы. Однако существуют определенные правила сокращения. Наиболее распространённый способ сокращения высказывания состоит в его редукции к реме. Для ряда типов допускается изменение лица в соответствии с условиями текущего речевого акта.
Явление диалогической цитации активно используется в художественных произведениях. Вторые реплики - повторы очень точно передают признаки "живой" разговорной речи. Кроме того, с помощью диалогической цитации автор без лишних слов и комментариев передаёт возникшие в момент речи отношения между говорящими.
Диалогическая цитация придаёт диалогу особый эффект неожиданности, лёгкости, непосредственности, подлинной "разговорности", эмоциональности, а такой диалог, в свою очередь, - живость и лёгкость восприятия всему художественному восприятию. Диалогическая цитация даёт примеры
разной степени координации чужой речи с новой для неё средой, а также разных способов её выделения: - Пусть сидит // - Нет, не пусть сидит! Веерка уведи мальчика. (Толстой АО-
Использование различных типов предложений по цели высказывания обусловливает разноплановость и разнонаправленность диалогов.
Материалы анализируемой нами картотеки поззоляют утверждать, что в художественных произведениях активно используются следующие типы диалогов: 1) информативный; 2) вокативный; 3) фатический; 4) генеративный; 5) смешанный.
Диалогические единства являются органическим элементом художественного текста, репрезентирующим его так называемую персонажную зону.
Специфика художественных текстов состоит в том, что в них наряду с семантической, содержится и образная, эстетическая информация, носителями которой являются и образования, называемые «текст в тексте», в том числе и ДЕ. В художественном произведении и монолог, и диалог выступают как взаимосвязанные фрагменты общего художественно-образного полотна, характеризующиеся, однако, и разным текстообразующим потенциалом по отношению ко всему тексту произведения, и различной степенью структурно-смысловой завершенности. ДЕ, проектируемые и вводимые автором как непременный, обязательный для развития темы фрагмент ССЦ, пусть даже часто прерываемое монологом, все-таки заканчивается свойственными именно данному типу свехфразового единства особым структурным элементом, а именно: репликой-реакцией. Диалогические единства могут оказаться в сильной позиции начала фрагмента текста, инициирующего тему либо микротему.
Вкрапления реплик и их авторских ремарок в монологи и монологических реплик в ДЕ, активно используемые в художественных текстах, совместно формируют фрагменты произведения, которые характеризуются как выразители интенций автора, его стремления активно воздействовать на читателя.
В заключении диссертации подводятся итоги исследования, излагаются общие выводы и намечаются перспективы дальнейшего изучения ДЕ.
Результаты исследования отражены в публикациях:
1. Мартыненко Т.И. Активизация речевой деятельности // Наука и образование. Известия Южного отделения РАО и РГПУ. Ростов н/Д, 2002. №1.0,2 п.л.
2. Мартыненко Т.И. Диалогическая цитация // Язык. Дискурс. Текст: Материалы междунар. науч. конфер. Ростов н/Д, 2004.0,2 п.л.
3. Мартыненко Т.И. К вопросу о диалоге // Актуальные проблемы общей и адыгской филологии: Материалы междунар. науч. конфер. Майкоп, 2003. 0,1 п.л.
4. Мартыненко Т.И. К вопросу о диалоге культур // Практика формирования творческой личности (через внедрение инновационных технологий): Сб. науч. статей и метод, материалов. Вып. 2. Ростов н/Д - Зимовники, 2004. 0,2 п.л.
5. Мартыненко Т.И. О типах диалогических реакций // Наука и образование. Известия Южного отделения РАО и РГПУ. Ростов н/Д, 2004. №1.0,2 пл.
6. Мартыненко Т.И. Реализация диалогического подхода в процессе формирования творческой личности - актуальная задача современного образования: Сб. науч. статей и метод, материалов. Вып. 2. Ростов н/Д - Зимовники, 2004.0,1 пл.
7. Мартыненко Т.И. Семантика компонентов диалогических единств, отражающих ситуацию общения // Сб. науч. работ аспирантов и молодых преподавателей. Ч.2. Филология. Ростов н/Д, 2001. 0,2 п.л.
8. Мартыненко Т.И. Структура диалогов, отражающих ситуацию общения // Тезисы докладов студ. науч. конфер. Ростов н/Д, 2001.0,1 п.л.
9. Мартыненко Т.И. Структурные особенности диалогических единств // Наука и образование. Известия Южного отделения РАО и РГПУ. Ростов н/Д, 2004. №2. 0,1 п.л.
Подписано а печать 2 /, Ол, Формат 8&|84/1в Бумага офсетная. Печать дфсетная Объем/ 6фпл Тираж/¿ЛЛка. Заказ ШАЖИ. Ротапринт. 344082 г Роетоа-на Дону ул. Б Садовая 33
Глава 1. Теоретические основы исследования.
1.1. Диалогическая речь как объект исследования.
1.2. Диалог в антропоцентрическом аспекте.
1.3. Проблема структурирования и функционирования диалогических единств.
Глава 2. Структурно-семантическая специфика диалогических единств
2.1. Предпосылки формирования ДЕ.
2.1.1. Валентность единиц языка и прогрессия текста.
2.1.2. Взаимодействие способов реализации связности и коммуникативной цельности ДЕ.
2.2. Структурные типы ДЕ.
2.2.1. Двучастные структуры.
2.2.2. Многочастные структуры.
2.3. Структурные и функционально-смысловые особенности реплик ДЕ.
2.3.1. Минимизация вербальных средств и вариативность контактирующих реплик ДЕ.
2.3.2. Эллипсис как характерная особенность ДЕ.
2.4. Реплики ДЕ - нечленимые предложения и междометия.
Глава 3. ДЕ в коммуникативно-прагматическом аспекте.
3.1. Дискурсивная обусловленность смысла ДЕ.
3.2. Косвенные и скрытые смыслы.
3.3. Структурные средства актуализации коммуникативных ролей в ДЕ.
3.4. Модальность реплик ДЕ.
3.5. Взаимодействие функциональных разновидностей реплик ДЕ при выражении различных речевых актов.
3.5.1. ДЕ с репликой-стимулом - побудительным предложением.
3.5.2. ДЕ с репликой-стимулом - вопросительным предложением.
3.5.3. ДЕ с инициирующей репликой - повествовательным предложением.
3.5.4 Диалогическая цитация как реплика-реакция ДЕ.
3.6. ДЕ, выражающие различные жанры речевого общения.
3.7. Взаимодействие диалога и монолога в процессе текстообразования
Введение диссертации2005 год, автореферат по филологии, Мартыненко, Татьяна Ивановна
Данное исследование посвящено комплексному и многоаспектному описанию диалогических единств (ДЕ) как структурных единиц, обеспечивающих динамику художественного или публицистического текста.
Изучение языка в его динамике предполагает прогрессирующее расширение синтагматической базы исследования, вплоть до обращения к завершенным речемыслительным произведениям, текстам и их составляющим - сверхфразовым единствам (СФЕ) как монологическим, так и диалогическим.
Но в большинстве своем исследования в сфере лингвистики текста направляются на изучение структуры, семантики и функций сложных синтаксических целых (ССЦ), представляющих собой авторские монологи. Диалоги в этом случае рассматриваются лишь как своеобразное «вкрапление» в текст рассказа, описания или рассуждения, которое служит средством репрезентации так называемого «персонажного плана» этих функциональных разновидностей речи. Как самостоятельный предмет исследования диалоги выступают в работах по разговорной речи.
Изучением диалога занимались многие отечественные лингвисты (Л.В.Щерба, Л.П.Якубинский, Г.О.Винокур, Н.Ю.Шведова и др.). Интерес к сверхфразовым диалогическим единицам не ослабевает и в наши дни. Лингвисты стали больше внимания уделять изучению диалогических отношений в силу того, что они, буквально, пронизывают все, что связано с деятельностью человека. Это нашло отражение в ряде интересных и глубоких исследований отечественных ученых (Н.Д.Арутюнова, А.А.Леонтьев, А.Н.Баранов, Г.Е.Крейдлин, Е.В.Падучева, Д.И.Изаренков, М.К. Милых, И.Н.Борисова, С.Г.Агапова, Н.В. Изотова и др.).
Интерес ученых к диалогу объясняется необходимостью углубления и конкретизации лингвистических представлений о принципах и закономерностях использования языка человеком. Эта потребность, в свою очередь, диктуется очевидной необходимостью качественного обучения языку, и более широко - необходимостью повышения гуманитарной и, в частности, филологической культуры общества.
Мы исходим из предположения, что решение указанных задач возможно в русле антропоцентрического подхода к анализу единиц языка. А это предполагает необходимость исследования самого языка как развивающейся диалогической системы, в центре которой находится человек с его коммуникативными потребностями. Следовательно, диалог должен интерпретироваться исследователями текстовых единиц как самостоятельный объект исследования, обладающий специфическими свойствами как структурно-семантического, так и коммуникативно-прагматического плана.
Таким образом, изучение диалога и особенно диалогической речи в тексте художественного произведения может быть более результативным и эффективным в том случае, если, во-первых, он исследуется в тесной связи с речевым поведением участников коммуникации, во-вторых, его единицы рассматриваются комплексно и всесторонне, в-третьих, учитываются взаимосвязь и взаимодействие диалогических цепочек и монологических единств.
Ориентация на многоаспектный подход к исследованию реплик, включающий структурно-семантический, коммуникативный и прагматический уровни изучения продиктована уверенностью в том, что нельзя получить положительный результат при рассмотрении исследуемых явлений только с какой-либо одной точки зрения.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью исследования ДЕ в русле антропоцентрического подхода, предполагающего комплексный и всесторонний анализ специфики их строения и функций; уточнения статуса, типологии и делимитации этих единств, а также определения характера связи ДЕ как компонента текста с монологическими единствами, и взаимодействия пропозиционального и модусного содержания обоих типов единств в процессе тексто- и смыслообразования.
Объект данного исследования - диалогическая речь.
Предметом исследования являются диалогические единства как компонент художественного и публицистического текста.
Целью исследования является комплексное и всестороннее описание диалогических единств современного русского языка, формирующихся и функционирующих в художественной литературе и публицистике.
Реализация цели потребовала решить следующие задачи:
Охарактеризовать предпосылки образования и функционирования ДЕ как тексто- и смыслообразующего фрагмента письменной формы речи;
Определить структурно-семантические особенности реплик-стимулов и реплик-реакций,- а также средства формирования цельности и связности ДЕ;
Выявить функционально-прагматическую специфику как реплик ДЕ, так и единств в целом;
Представить типологию речевых актов реализуемых в ДЕ;
Установить роль ДЕ в формировании различных типов, или жанров человеческого общения;
Исследовать характер взаимосвязи ДЕ и ССЦ в рамках художественного и публицистического текстов.
Методы исследования. Решение поставленных задач обеспечивается применением метода лингвистического наблюдения и описания, а также использованием приемов трансформации, элементов компонентного, дистрибутивного и контекстуального анализа диалогических единств.
Материал исследования. Эмпирической базой исследования являются произведения художественной литературы (А.Н.Толстого, А.П.Чехова, М.Шолохова, М.Цветаевой, А.Вознесенского, Г.Щербаковой, Д.Донцовой и др.), а также статьи из газеты «Комсомольская правда», Интернета.
Достоверность положений и выводов подтверждается анализом большого фактического материала (картотека фактического материала составила около 5000 примеров). В отдельных случаях привлекались к рассмотрению и единства из устной разговорной речи.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые ДЕ проанализированы комплексно в структурно-семантическом и коммуникативно-прагматическом аспектах; впервые реплики диалога рассматриваются с позиций выявления их интенционального и тексто- и смыслообразую-щего потенциала в письменной речи. В диссертации впервые предпринята попытка рассмотрения различных планов взаимодействия пропозициональное™ и модальности (объективной и субъективной) реплик и ДЕ в целом, с одной стороны, и конситуации, с другой, в актуализированной прозе, характеризующейся т.н. «рубленым синтаксисом». Новизна усматривается и в попытке выявить роль реплик и ДЕ в целом в осуществлении связности как самого единства, так и авторских монологов с ДЕ.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней уточняется понятие «диалогическое единство», а также типология ДЕ, участвующих в формировании текстов разных функциональных типов в произведениях современной художественной литературы и публицистики, приводятся дополнительные доказательства положения о том, что диало-гизация текстов весьма продуктивный способ использования потенциала разговорной речи. Благодаря этому достигается «раскрепощенность» стиля: обилие неполных предложений, скрытых смыслов и других средств, в частности диалогической цитации, способствующих тому, что увеличивается количество перлокутивных речевых актов, результатом чего является активизация речевого воздействия на читателя.
Практическая ценность работы заключается в возможности использования материалов и выводов по результатам анализа в дальнейшем изучении ДЕ, а также в преподавании современного русского языка и стилистики, при разработке спецкурсов и спецсеминаров по синтаксису русского языка.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Формирование реплик диалога и ДЕ в целом как фрагмента художественного или публицистического текста обусловлено интенциями участников коммуникации, наличием зоны пересечения макро- и микропресуппозиций. При этом интерактанты исходят из того, что потенциальная структурная и семантическая соотнесенность реплик прогнозируется валентностями текстового окружения. Лексико-семантические узлы предтекста задают темы (и микротемы) реализуемого смысла высказываний и соответствующие границы ДЕ, которые квалифицируются по количеству реплик и смысловых взаимоотношений между ними. Невербализованное звено реплик как тексто- и смыслообразующий элемент ДЕ оказывается чаще всего «сильным» и значимым фактором, обеспечивающим успех коммуникации. ДЕ представляются репликами-стимулами и репликами-реакциями, выраженными различными типами предложений по цели высказывания. При этом сохраняется целостность ДЕ.
2. Особую роль в организации функционирования диалога играют прагматические условия, которые представлены триадой «адресант (инициирующий диалог) - внеречевая ситуация - адресат». Специфика ДЕ с точки зрения функционально-прагматической состоит в том, что кодирование и декодирование смысла в рамках этих единств обусловливает отсылку не только к говорящему и адресату как главным составляющим речевого акта, но и к прагматическим макро- и микропресуппозициям, к общему фонду знаний. Реплики речевого акта приобретают иллокутивную силу и обеспечивают эффект активного воздействия на собеседника, функционируя не изолированно, а в связном коммуникативном контексте, в котором широко используются не только формальные, но и не формальные связи, как прямые так и косвенные речевые акты.
3. Функционально-прагматические разновидности ДЕ предопределяются объективной модальностью реплики-стимула (ирреальная модальность - либо вопросо-ответное единство, либо единство с репликой-стимулом побудительным предложением, а реальное единство с репликой-стимулом повествовательным предложением), что касается модальности реплик-реакций, в каждой из трех разновидностей ДЕ, то они активно варьируют в диапазоне объективной модальности реальность - ирреальность. В русском языке выделяют по три разновидности ДЕ (для реализации речевых актов: побуждения, поиска информации, сообщения), а также единства диалогической цитации и с различными комбинациями и переплетениями речевых актов в репликах многочастных ДЕ.
4. В основных типах речевых актов используются различные структурные и функциональные типы реплик-стимулов и реплик-реакций, которые обеспечивают разноплановость и разнонаправленность диалогов.
5. Целенаправленность ДЕ в тексте и успешность коммуникативного акта зависят от пространственных и временных координат, в которых он осуществляется, и базируется на наличии у коммуникантов адекватного общего объема фоновых знаний по пропозициональному и модусному содержанию каждой из реплик диалога. Реплики ДЕ как варианты определенных речевых актов участвуют в формировании разных речевых жанров, приобретают иллокутивную силу перлокутивных речевых актов. Особенно выразительным примером такого акта является реплика-реакция, которая называется диалогической цитацией.
6. В художественном и публицистическом тексте и ДЕ и авторский монолог выступают как взаимосвязанные фрагменты общего повествования и образного полотна произведения. Прерываемые и дополняемые по воле автора ДЕ и ССЦ развиваются во взаимодействии друг с другом.
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации отражены в девяти публикациях. Их содержание изложено на региональных и международных конференциях: «Актуальные проблемы общей и адыгской филологии» Международная научная конференция. Майкоп. 2003; «Язык. Дискурс. Текст» Международная научная конференция, посвященная юбилею В.П. Малащенко. Ростов н/Д. 2004.
Сгруктура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, содержит список научной литературы и список литературных источников.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Диалогическое единство"
1. Специфика ДЕ с точки зрения функционально-прагматической состоит не только в отчетливо выраженной целенаправленности высказываний коммуникантов, но и в большой роли их общих фоновых знаний, микро и макропресуппозиций. Существенную роль при функциональном анализе высказываний играют смысловые фантазии автора (прямые и косвенные речевые акты, скрытые смыслы), а также номинативные ресурсы языка для выражения диктумных и модусных пропозиций.
2. Кодирование и декодирование смысла в рамках диалога обусловливает отсылку к говорящему и адресату как главным прагматическим составляющим речевого акта, а также к прагматическим пресуппозициям, общему фонду знаний коммуникантов.
3. Реплики диалога как вариант определенного речевого акта приобретает иллокутивную силу и обеспечивают эффект активного воздействия на адресата, функционируя не изолированно, а в связном коммуникативном контексте, в котором широко используются не только формальные, но и неформальные связи, как прямые, так и косвенные речевые акты. При косвенном выражении смысла как в инициальной, так и в реагирующей реплике обуславливается во многих случаях чисто смысловая связь реплик и передача коммуниканту большего пропозиционального содержания, чем то, которое называется реально.
4. Подчеркивание адресованности реплик, актуализация коммуникативных ролей адресанта и адресата в ДЕ достигается при использовании форм личных и притяжательных местоимений первого и второго лица, обращений, форм предикатов глагольных односоставных предложений или сочетанием перечисленных средств.
5. Одним из параметров функционально-прагматического аспекта анализа ДЕ является модальность, объективная и особенно субъективная. ДЕ в большей мере, чем монологические СФЕ, насыщены такими средствами выражения субъективной модальности как повторы, лексемы, выражающие возможность, желание, достоверность, долженствование, фразеологизмы.
6. Изучение диалогов позволяет говорить о том, что для выражения основных типов речевых актов в русском языке в качестве наиболее частых по употреблению функциональные типы предложений. С учетом этого положения выделяются и ДЕ с репликой-стимулом: а) побудительным предложением; б) вопросительным; в) повествовательным; г) их восклицательными вариантами, - обеспечивающими разноплановость и разнона-правленность диалогов. Особой функционально-прагматической функцией обладают ДЕ с диалогической цитацией - средством активного воздействия на адресата.
7. В художественном или публицистическом тексте и ДЕ, и авторские монологи выступают как взаимосвязанные фрагменты общего повествования и образного полотна произведения. Прерываемые и дополняемые по воле автора оба типа СФЕ развиваются во взаимодействии друг с другом. Принципиальное отличие ДЕ в письменном тексте от устного состоит в наличие при репликах (в большинстве случаях) авторских ремарок. Авторское участие в формировании ДЕ - это один из эффективных способов передать речевую ситуацию, охарактеризовать и речь персонажей, и их состояние, ввести информацию, которая помогает читателю лучше понять героев. А ДЕ в свою очередь способствуют динамике текста, окрашивают живой человеческой речью и повествование, и описание, и рассуждение.
Заключение
Русская лингвистическая наука достигла значительных успехов в изучении ДЕ. Ученые едины в том, что результативный анализ диалога достижим лишь тогда, когда исследователь изучает его тесные связи с речевым поведением интерактантов. Комплексный подход к анализу дает основание для выводов о том, что при характеристике ДЕ необходимо учитывать условия, связанные с интенцией коммуникантов и с индивидуальными качествами с их языковой и коммуникативной компетенцией. С функционально-прагматической точки зрения специфика ДЕ состоит в большой роли общих фоновых знаний коммуникатнов, различных микро-и макропресуппозиций. Существенную роль при этом играют смысловые фантазии коммуникантов, а также ресурсы языка. Успех в исследовании ДЕ как единиц, релевантных для формирования текста, достижим при обращении к учению о речевых произведениях, которые позволяют соединить иллокутивные намерения участников речевого общения, относительно завершенный отрезок речи и ожидаемый (и достигаемый) результат.
Для выяснения ряда вопросов, связанных с функционированием ДЕ в текстах художественных и публицистических произведений нам потребовалось провести описание структурной организации, семантического содержания и закономерностей употребления реплик-высказываний, входящих в состав ДЕ. При таком подходе признается неразрывной связь языка и языковой личности. Учет авторских интенций позволил заострить внимание на прагматическом аспекте вопроса.
Изучение диалога дает основание говорить о нем как о многогранном явлении. Основными единицами диалогического текста являются двучастные и многочастные ДЕ, которые представляют собой связную последовательность реплик-стимулов и реплик-реакций, образующих разновидность сложного речевого акта - интерактивное, или диалогическое действие. Формирование ДЕ как части художественного или публицистаческого текста обусловлено интенциями говорящего, которые направлены на привлечение внимания адресата и вовлечение его в речевой акт. Этот процесс происходит под влиянием и на основе пресуппозиций общего объема адекватного знания коммуникантов, а также в ходе реализации репликами диалога валентностей единиц предтекста.
Реплики-стимулы и реплики-реакции имеют свои структурные и семантические особенности. Они могут быть представлены разными структурными типами предложений или ССЦ, при этом сочетание реплик разного типа вариативно. Реплики, входящие в состав ДЕ, могут выражаться в русском языке различными типами высказываний по цели высказывания, способных передать речевые акты передачей информации, побуждения, поиска информации и др., что подчеркивает разноплановость и раз-нонаправленность диалогов.
В ДЕ самой их структурой и функцией реплики-стимула задана необходимость реагирования ответной реплики на выраженную исходным высказыванием объективную модальность. В ДЕ субъективная модальность находит свое выражение в довольно широком диапазоне грамматических, лексических и интонационных средств используемых тремя субъектами речи - автором произведения и персонажами для выражения отношения каждого из них к сообщаемому.
Одной из особенностей диалогических высказываний является эллипсис. Тенденции к употреблению в составе ДЕ художественных и публицистических текстов контекстуально - и ситуативно-неполных предложений проявляется в основном в репликах-реакциях. Широкое распространение получают диалоги с репликами, обладающими косвенным и скрытым смыслами. Невербализованное звено реплик как тексто- и смыс-лообразующий элемент ДЕ оказывается чаще всего сильным и значимым фактором, обеспечивающим успех коммуникации.
Анализ накопленного материала позволяет говорить о широком использовании т.н. диалогической цитации, состоящей в различных способах использования адресатом реплики-стимула, ее выделения и координации смыслов реплик.
Предел варьирования семантики и структуры непрямого ответа относительно семантики и структуры определяется возможностью связать денотативный смысл ответа и актуализированную в коммуникативном акте пресуппозицию отношениями логического следования.
Подчеркнутость, точнее актуализация, коммуникативных ролей адресанта и адресата в ДЕ проявляется в использовании местоимения первого и второго лица, а также форм притяжательных местоимений и других средств.
Целенаправленная речевая деятельность участников общения является переменно-речевой ситуативно обусловленной формой воплощения интенций адресанта.
Целеориентированность составляет важнейший параметр диалога. Она определяет не только связь отдельных реплик между собой, но и типы, или жанры человеческого общения, в рамках которых формируются характерные для коммуникации ролевые структуры и модальности.
Диалогические и монологические тексты развиваются во взаимодействии друг с другом. ДЕ и даже часто включаемые в авторские монологи безответные реплики героев повышают заинтересованность читателя, позволяют автору более отчетливо представить плоды его воображения как факты реальной действительности во всех ее проявлениях и особенно в том, что связанно с поведением людей, их мыслями, чувствами, состояниями, отношениями друг с другом.
Принципиальные отличия диалогических единств письменной речи от единств подобного рода устной речи состоит в наличии при репликах авторского сопровождения. При помощи так называемых слов автора диалогические реплики включены в диалогический текст. Читателя редко заставляют угадывать участников диалога. Более того, авторское участие в формировании диалогов - это один из эффективных способов передать речевую ситуацию, охарактеризовать и речь героев повествования, и их состояние, внутренний мир замыслы, ввести информацию, которая помогает читателю лучше понять содержание реплик, отношение говорящих друг к другу, к ситуации и к тому, что они говорят и слышат.
Особой функциональной прагматической функцией характеризуются ДЕ, где реплика-реакция воспроизводит частично (реже полностью) реплику-стимул с целью выражения отрицательного отношения к ее содержанию или адресанту, его передразнивание, пародирование, экспрессивному воздействию на его мыли и чувства. Цитация входит в диалогический контекст, который и определяет ее свойства. Диалогическая цитация придаёт диалогу, как видим, особый эффект неожиданности, лёгкости, непосредственности, подлинной "разговорности", эмоциональности, а такой диалог, в свою очередь, - живость и лёгкость восприятия всему художественному произведению. Диалогическая цитация даёт примеры разной степени координации чужой речи с новой для неё средой, а также разных способов её выделения.
Особого внимания заслуживают реплики-реакции с т.н. цитатными вопросами, всегда представляющие собой реакцию на предшествующее высказывание, из которого и происходит заимствование «чужих слов».
Выбор средств выражения диалогической речи позволяет говорящему выработать свой собственный стиль общения. Успешное протекание коммуникативного акта зависит от пространственных и временных координат, в которых он осуществляется, и базируется на наличии у коммуникантов адекватного общего объема фоновых знаний по каждому конкретному пропозициональному и модусному содержанию реплик диалога. Эти составляющие ДЕ как варианты определенных речевых актов участвуют в формировании разных речевых жанров, приобретают иллокутивную силу и обеспечивают перлокутивный эффект указанных актов, функционируя не изолированно, а в связном коммуникативном контексте.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты работы можно использовать при чтении лекций по современному русскому языку, при разработке спецкурсов по проблемам лингвистики текста и функционирования языка.
По нашему мнению, результаты работы открывают дальнейшие перспективы исследования проблем структуры, семантики и функционирования ДЕ.
Наиболее важной проблемой коммуникативно-прагматического плана является, на наш взгляд, взаимодействие (и взаимосвязь) рекомендованного Дж.Серлем диапазона речевых актов в контактирующих монологических и диалогических СФЕ и их использование в различных речевых жанрах. Нуждаются в более обстоятельном анализе и неформальной связи реплик ДЕ, особенно в части, касающейся роли ДЕ в формировании и обеспечении связности и цельности монологических текстов, в которые они включаются в письменной речи.
Список научной литературыМартыненко, Татьяна Ивановна, диссертация по теме "Русский язык"
1. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. -М., 1975.
2. Агапова С.Г. О некоторых особенностях английской диалогической речи// Язык. Дискурс. Текст: Международная научная конференция, посвященная юбилею В.П. Малащенко. Ростов н\Д, 2003.
3. Агапова С.Г. Прагматические особенности английской диалогической речи. Ростов н/Д, 2002.
4. Агашина Н.М. Ирреальная модальность в современном русском языке. Автореферат диссертации к.филол.н. Ставрополь, 2003.
5. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М., 1990.
6. Андреев Н.Д., Зингер Л.Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка. М., 1974.
7. Апресян Ю.Д. Формальная модель языка и представление лексикографических знаний // Вопросы языкознания. 1990. № 6.
8. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования). Л., 1973.
9. Арутюнова Н.Д. Диалогическая модальность и явление цитации // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. -М., 1992.
10. Ю.Арутюнова Н.Д. Диалогическая цитация (к проблеме чужой речи) // Вопросы языкознания. 1986. № 1.
11. П.Арутюнова Н.Д. Некоторые типы диалогических реакций и «почему» -реплики в русском языке // Филологические науки. 1970. № 3.
12. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
13. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
14. Арутюнова Н.Д. Феномен второй реплики, или о пользе спора // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
15. Астафурова Т.Н. Косвенные перформативы рациональной оценки // Коммуникативные аспекты значения: Межвуз. сб. Волгоград, 1990.
16. Афанасьев П.А. Структурно-семантические типы связей в вопросно-ответном диалогическом единстве // Синтаксис предложения и сверхфразового единства: Сб. статей. Ростов н/Д, 1977.
17. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
18. Баранов А.Н., Крейдлин Г.Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопросы языкознания. 1992. № 2.
19. Бахарова E.H. Некоторые особенности выражения умозаключений в диалогической речи // Логико-семантическая структура текста: Межвуз. сб.-М., 1990.
20. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
21. Бахтин М.М. Собр. Соч. Т.5. М., 1996.
22. Белунова Н.И. Диалогизация как доменантная категория текста дружеского письма // Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и материалы II Междун. конгресса исслед. рус. языка. М., 2004.
23. Бельчиков Ю.А. О диалогах у Глеба Успенского // Русская речь. 1982. №2.
24. Беляева Е.И. Модальность в различных типах речевых актов // Филологические науки. 1987. № 3.
25. Богданов В.В. Речевое общение: прагматические и синтаксические аспекты.-М., 1990.
27. Бондаренко А.Г. Неполное предложение как единица текста. Диссертация к. филол. н. Ростов н/Д, 2002.
28. Брызгунова Е.А. Смысловое взаимодействие предложений // Синтаксис текста. М., 1979.
29. Будагов Р. А. О сценической речи // Филологические науки. 1974. № 6.
30. Бузаров В.В. Изучение диалогической коммуникации основная задача коммуникативной грамматики // Вестник московского университета. Серия 9. Филология. 2002. № 1.
31. Буренина Н.В. Диалог и эмотивная функция языка // Межвуз. сб. науч. работ. Мордовский университет. 1991.
32. Валимова Г.В. Об основных типах ответных предложений в диалогической речи // Сб. науч. трудов. Ростов н/Д, 1955.
33. Валимова Г.В. Сложное предложение и сочетание предложений // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Ленинград, 1975.
34. Валюсинская З.В. Вопросы изучения диалога в работах советских лингвистов // Синтаксис текста. М., 1979.
35. Васильев Л.Г. О понимании речевых сообщений // Языковое общение и его единицы: межвуз. сб. Калинин, 1986.
36. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. М., 1988.
37. Вдовиченко П.С. Коммуникативная характеристика сверхфразовых диалогических единств. Горький, 1982.
38. Вейхман Г.А. Дереваты вопросно-ответных единств // Вопросы языкознания. 1987. № 3.
39. Венедиктова Т.Д., Раренко М.Б. «Образ речи» в романе. К проблеме моделирования национально-специфического дискурса // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2000. № 4.
40. Ветошкина М.К. Опыт исчисления семантики речевой роли // Диалог о диалоге: сб. статей. Саранск, 1991.
41. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Избр. труды. Исследования по рус. грамматике. М., 1975.
42. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. -М., 1993.
43. Винокур Т.Г. Диалогическая речь // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990.
44. Власова Ю.Н., Романова О.В. Роль модальных слов в диалогической коммуникации // Известия РГПУ. Филология. Изд. РГПУ. 1998.
45. Воейкова М.Д. Вариативность морфологических характеристик предиката в вопросо-ответных единствах (на материале русского языка)// Проблемы функциональной грамматики. Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб «Наука»,2000.
46. Гаврилова Г.Ф. Структурные и семантические особенности сложных предложений в составе диалогических единств // Сложное предложение и диалогическая речь. Тверь, 1990.
47. Гаврилова Г.Ф. Предложение-высказывание и коммуникативно-когнитивные модели знания // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект. Уч. пос. Ростов н/Д, 2003.
48. ГавриловаГ.Ф. Экономия речи в синтаксисе: высказывания с имплицитными звеньями // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект. Уч. пос. Ростов н/Д, 2003.
49. Гаврилова Г.Ф., Кудряшов И.А. Высказывания с императивной семантикой // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект. Уч. пос. Ростов н/Д, 2003.
50. Гак В.Г. К проблеме соотношения между структурой высказывания и структурой ситуации // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. М., 1969.
51. Герасимова О.И. Прагматическая детерминированность ответных реплик // Языковое общение и его единицы: межвуз. сб. науч. трудов. Калинин, 1986.
52. Голубева-Монаткина Н.И. Класификационное исследование вопросов и ответов диалогической речи // Вопросы языкознания. 1991. № 1.
53. Гончарова Ю.Л. Слова названия эмоций в когнитивном аспекте. Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2003.
54. Горелов И.Н. О некоторых «неязыковых» характеристиках диалогических текстов // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1973.
55. Грайс Г.П. Логика и речевое общение И Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. Вып. 16.- М., 1985.
56. Григорьева Л.Н. Диалогические высказывания с побудительной интенцией // Языковые единицы в языковой коммуникации. Ленинград, 1991.
57. Давыдова Л.В. Лексическая презентация речевого акта в текстовых фрагментах с диалогическим единством: автореферат диссертации к. филол. н. Санкт-Петербург, 1991.
58. Девкин В.Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской. -М., 1981.
59. Дейк ван Т.А., Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. Вып. 23. М., 1988.
60. Деньгина Т.В. Формально-синтаксические и функционально-семантические особенности восклицательных предложений в современном русском языке. Автореферат диссер. к. филол. н. Ставрополь, 1999.
61. Джусти-Фичи Ф. Опыт анализа чужой речи в сопоставительном плане // Вопросы языкознания. 1985. № 2.
62. Диалог: теоретические проблемы и методы исследования: Сб. научно-аналитических обзоров / Отв. ред. Безменова Н. А. М., 1991.
63. Долинин К.А. Имплицитное содержание высказывания // Вопросы языкознания. 1983. № 6.
64. Земская Е.А. и др. Русская разговорная речь. М., 1981.72.3олотова Г.А. Синтаксические основы коммуникативной лингвистики // Вопросы языкознания. 1988. № 4.
65. Зотов Ю.П. Проблемы создания диалогического эффекта в научной коммуникации // Межвуз. сб. науч. трудов: Диалог о диалоге. Мордовский университет. 1991.
66. Изаренков Д.И. Обучение диалогической речи. М., 1986.
67. Изаренков Д.И. Структура и функциональные особенности диалога в современном русском языке: Диссертация к. ф. н. М., 1979.
68. Изотова Н.В. Некоторые особенности структуры и семантики диалогического фрагмента текста (на материале прозы А.П.Чехова)//Язык. Дискурс. Текст: Международная научная конференция, посвященная юбилею В.П. Малащенко. Ростов н\Д, 2004.
69. Изотова Н.В. О своеобразии диалога художественной прозы// Человек. Язык. Искусство (памяти профессора Черемисиной). Материалы международной научно-практической конференции. М.,2002.
70. Изотова Н.В. О внутренней речи в монологах и диалогах прозы А.П.Чехова// Филологический вестник Ростовского государственного университета. Ростов н\Д, 2004. (б)
71. Изотова Н.В. О тенденциях изменения диалога в художественной прозе// Русский язык: исторические судьбы и современ-ность:Международный конгресс исследователей русского языка. М., 2004.
72. Инфантова Г.Г. Закономерности организации невербализованной семантики // Семантическая структура предложения. Ростов н/Д, 1978.
73. Йотов Ц.0 сущности и строении диалога // Материалы V Всероссийского симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. Ленинград, 1975.
74. Катанцева Н.В. Неполные предложения императивной семантики в русском языке: коммуникативно-функциональный аспект: Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2004.
75. Катышев П.А. Ключевые идей риторической герменевтики\\Вестник МГУ.Сер.9. Филология. М.,2003.- №6.- с. 103-123.
76. Кафкова О. Вопросы диалога в обучении иностранному языку // Русский язык за рубежом. 1968. № 1.
77. Кафкова О. О роли контекста в разных типах коммуникатов // Синтаксис текста. М., 1979.
78. Кибрик A.A. Фокусирование внимания и метоименно-анафорическая номинация // Вопросы языкознания. 1987. № 3.
79. Клецкая С.И. Конструкции с сочиненными рядами глаголов сказуемых и их стилистические функции в языке прозы М. Булгакова. Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2003.
80. Клокова О.В. Формальные и функционально-семантические особенности несобственно-вопросительных предложений в современном русском литературном языке. Автореферат диссертации к. филол. н. Ставрополь, 2002.
81. Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. М., 1986.
82. Кожевникова Квета. Об аспектах связности в тексте как целом // Синтаксис текста. М., 1979.
83. Колокольцева Т.Н. Диалогическая коммуникация на рубеже тысячелетий //Филология на рубеже тысячелетий. Материалы междунар. науч. конфер. Ростов н/Д, 2000.
84. Комианский В.Г. Паралингвистика. М., 1974.
85. Коробейник Д.Г. Синтаксический статус соотносительно указательных слов в современном русском языке. Автореферат диссертациии к. филол. н. Ставрополь, 2003.
86. Красса С.И. Арготические фразеологизмы в современном русском языке: семантический и лингвокультурологический аспекты: Автореферат диссертации к. филол. н. Ставрополь, 2000.
87. Кручинкина Н.Д. Экономия синтаксического выражения типового предикатного значения в диалогической речи // Сб. науч. трудов: Диалог в диалоге. Саранск, 1991.
88. Крылова М.Н. Разноуровневые средства выражения сравнения, их функции в языке и поэзии и прозы И. А. Бунина и С. А. Есенина. Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2003.
89. Кудимова В.Н. Структурно-семантическая соотносительность полных и неполных предложений диалогической речи // Сб. науч. трудов: Исследования грамматического строя и словарного состава русского языка. Киев, 1977.
90. Курбанова JI.A. Простые и сложные предложения ассиметричной структуры в составе диалогического единства: Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 1994.
91. Лагутин В.И. Проблемы анализа художественного диалога. Кишинев, 1991.
92. Лаптева O.A. К вопросу о месте современной русской устно разговорной речи в кругу явлений литературного языка // Русский язык за рубежом. 1968. № 1.
93. Лебедева Л.Б. К проблеме общереферентных высказываний // Вопросы языкознания. 1986. № 2.
94. Леванова А.Е., Брайн О.В. Прагматика пресуппозиций в диалогической речи // Прагматические условия функционирования языка. Кемерово, 1987.
95. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения. М., 1979.
96. Леонтьев A.A. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.
97. Леонтьев A.A. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики, теории и коммуникации // Синтаксис текста. М., 1979.
98. Леонтьева H.H. О статусе валентности в информационном анализе текста // Семиотика и информатика. Вып. 36. 1998.
99. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
100. Лисоченко Л.В. Высказывания с имплицитной семантикой (Логический, языковой и прагматический аспекты). Ростов н/Д, 1992.
101. Лисоченко JI.B. К вопросу о коммуникативно-прагматической обусловленности выражения субъекта в ответных высказываниях диалогического текста // Семантика и сочетаемость компонентов грамматических конструкций: Межвуз. сб. науч. трудов. Ростов н/Д, 1995.
102. Лисоченко Л.В. Прагматические признаки текста со скрытым смыслом (К вопросу о человеческом факторе в функционировании и развитии языка) // Язык и человек. Материалы межвуз. конференции. Краснодар; Сочи, 1995.
103. Лисоченко Л.В. Функциональная сочетаемость реплик в составе диалогического единства // Сб. науч. трудов: Сочетаемость синтаксических единиц. Ростов н/Д, 1984.
104. Лисоченко О.В. Явление прецедентности в современной русской литературной речи. Автореферат диссертации к. филол. н. Таганрог, 2002.
105. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
106. Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст: К типологии внутритекстовых отношений. М., 1986.
107. Макарова Н.П. Прагматические характеристики унисонных диалогических единств // Межвуз. сб. науч. работ: Диалог о диалоге. Мордовский университет. 1991.
108. Малащенко В.П. Высказывание как единица речи // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект. Уч. пос. Ростов н/Д, 2003.
109. Малащенко В.П. Детерминанты как компоненты, осложняющие структуру предложения. Языковые единицы в семантическом аспекте // Межвуз. сб. науч. трудов. Таганрог, 1990.
110. Малащенко В.П. Слово в синтаксисе. Избр. Труды. Ростов н/Д: Изд. РГПУ. 2004.
111. Малащенко В.П. Типы распространенных предложений в русском языке // Семантика исочетаемость компонентов грамматических конструкций: Межвуз. сб. науч. трудов. Ростов н/Д, 1995.
112. Малащенко В.П., Милевская Т.В. Лексико-грамматическая сочетаемость слова как основа формирования смысла высказывания // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект. Уч. пос. Ростов н/Д, 2003.
113. Малащенко В.П., Милевская Т.В., Малащенко А.И. Русский литературный язык. Ростов н/Д, 2004.
114. Малычева Н.В. Текст и сложное синтаксическое целое: системно -функциональный анализ. Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2003.
115. Меликян В.Ю. Контекст и пресуппозиции высказывания: функциональный аспект // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект. Уч. пос. Ростов н/Д, 2003.
116. Мешкова Н.В. Имплицитные средства передачи информации в диалоге // Филол. науки. Материалы 47 н.- метод, конфер. препод, и студентов. Ставрополь, 2002.
117. Милевская Т.В. Грамматика дискурса. Ростов н/Д: Изд. РГПУ. 2003.
119. Милых М.К. Прямая речь в художественной прозе. Ростов н\Д, 1958.
120. Милых М.К. Конструкции с косвенной речью в современном русском языке. Ростов н\Д, 1975.
121. Моисеева Н.В. Средства диалогизации монологической реплики персонажа (на материале прозы А.П. Чехова) // Языковые единицы: логика и семантика, функции и прагматика: Сб. науч.трудов. Таганрог, 1999.
122. Москаленко E.H. Микрополе косвенного побуждения в современном русском языке // Языковые единицы: логика и семантика, функции и прагматика: Сб. науч. трудов. Таганрог, 1999.
123. Нариньяни A.C. Функциональное представление речевого акта в формальной модели диалога // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. Новосибирск, 1985.
124. Некрасова H.A. Имплицитность разноуровневых конструкций в русском и английском языках: Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2003.
125. Несина Н.Г. К вопросу о диалоге в современном русском языке // Исследования и статьи по русскому языку: Сб. статей. Волгоград, 1972.
126. Нестеров И.В. Диалог и монолог//Русская словесность. 1996. № 5.
127. Николаева Т.М. Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // Известия АНССС. Сер. Литература и язык. Т.42. 1983. № 4.
128. Норман Б.Ю. Синтаксис речевой деятельности. Минск, 1978.
129. Общение. Текст. Высказывание. М., 1989.
130. ОдарюкИ.В. Особенности стереотипного речевого поведения журналистов. Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2003.
131. Одинцов В.В. Об анализе диалога литературного произведения // Русский язык в начальной школе. 1968. № 5.
132. Одинцов В.В. Жесты и мимика в диалогах Пушкина // Русская речь. 1967. № 1.
133. Одинцов В.В. Стилистическая структура диалога // Языковые процессы современной русской художественной литературы. Проза. М., 1977.
134. Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 1980.
135. Орлова М.Н. Структура диалога в современном русском языке (вопросно-ответная форма). Саратов, 1968.
136. Падучева E.B. Высказывание и его соотнесенность с действительностью.-М., 1988.
137. Падучева Е.В. Прагматические аспекты связности диалога // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т.41.1982. Вып. 4.
138. Пенина Т.П. Ответная реплика несогласие с имплицитным смыслом // Филологические науки. Материалы 47 н.- методич. конфер. препод, и студентов. Ставрополь, 2002.
139. Пенина Т.П. Ответные реплики с имплицитным содержанием несогласия в структуре диалогического текста. Автореферат диссертации к. филол. н. Ставрополь, 2003.
140. Пенькова Г.А. Многокомпонентные диалогические единства // Структура предложения и лексико-грамматические отношения: Сб. науч. трудов лен. пед. инст. им. Герцена. Ленинград, 1972.
141. Петров Т.И. Диалог и ситуация. // Русский язык в национальной школе. 1975. № 2.
142. Покровская Е.А. Русский синтаксис в 20 веке: лингвокультурологиче-ский анализ. Ростов н/Д, 2001.
143. Полищук Г.Г., Сиротинина О.Б. Разговорная речь и художественный диалог: Лингвистика и поэтика. М., 1979.
144. Полякова В.Н. Экстралингвистические и интралингвистические факторы формирования русской языковой личности. Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2002.
145. Попов A.C. К вопросу о неполных предложениях в современном русском языке // НДВШ. Филологические науки. 1959. № 8.
146. Почепцов Г.Г. Анализ перформативных высказываний // Филологические науки. 1982. № 6.
147. Радаев A.M. «Субглубинный» синтаксис как уровень моделирования замысла оппозитивной диалогической реплики // Филологические науки. 1980. № 6.
148. Распопов И.П. Актуальное членение предложения и контекст // Русский синтаксис. Воронеж, 1979.
149. Рахимова Е.В. Ловативность и вопрос// Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб.-М., 1996.
150. Рахимова Е.В. Отношение причины и цели в русском языке // Вопросы языкознания. 1989. № 6.
151. Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики. М., 1972.
152. Рогова Л.Н. О средствах выражения вопросительного значения в современном русском языке// Семантика и форма языковых явлений. -Л., 1978.
153. Рогожникова Р.П. Сложное целое и структура сложного предложения // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Ленинград, 1975.
154. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1985.
155. Русский язык в его функционировании. Коммуникативно прагматический аспект / Под ред. Земской Е.А. и Шмелевой Д.Н. - М., 1993.- 165. Сахарова Т.Е. Проблема ситуации при обучении диалогической речи // Вопросы преподавания иностранных языков. Тула, 1967.
156. Светана C.B. О диалогизации монолога // Филологические науки. 1985. № 4.
157. Святогор И.П. О некоторых особенностях синтаксиса диалогической речи в современном русском языке. Калуга, 1960.
158. Святогор И.П. Ситуативные конструкции в современном русском языке// Вопросы истории и теории русского языка. Тула, 1968.
159. Семененко Л.П. Аспекты лингвистической теории монолога. М., 1996.
160. Сербина Т.Г. Парцелляция как особое синтаксическое явление в языке современных газет. Автореферат диссер. к. филол. н. Воронеж, 1983.
161. Сергеева Т.А. Коммуникативные особенности риторических вопросов // Сб. науч. работ: Диалог о диалоге. Саранск, 1991.
162. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Зарубежная лингвистика. 2. -М., 1999.
163. Сиротинина О.Б. Разговорная речь и разговорность // Теория и практика лингвистического описания разговорной речи: материалы и тезисы меж-вуз. науч. конф. Нижний Новгород, 1994.
164. Скобликова Е.С. Синтаксис простого предложения. М., 1979.
166. Смирнова Р.Ф. Вопросительные предложения и функции сообщения и побуждения // Языковые единицы: логика и семантика, функции и прагматика: Сб. науч. трудов. Таганрог, 1999.
167. Современный русский литературный язык: Учебник. 6-е изд. / Под ред. Леканта П.А. М.: Высшая школа. 2004.
168. Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект: Уч. пос. Ростов н/Д: РГПУ. 2003.
169. Солганик Г.Я. Стилистика текста. М., 1997.
170. Соловьева А.К. О некоторых вопросах диалога // Вопросы языкознания. 1965. № 2.
171. Сорокина E.H. Особенности употребления безглагольных конструкций // Филологические науки. 1982. № 4.
172. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.
173. Сусов И.П. Коммуникативно-когнитивная лингвистика и разговорный дискурс// Сб.: Лингвистический вестник. Вып. № 1. Ижевск, 1989.
174. Сухих С.А. Полипредикатные конструкции // Прагматические и семантические аспекты синтаксиса. Калинин, 1985.
175. Сухих С.А. Организация диалога // Языковое общение: Единицы и регулятивы. Межвуз. сб. Калинин, 1986.
176. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 1986.
177. Тимофеева Ж.Н. Имплицитное содержание высказывания в свете теории о семантических формах мышления // Филол. науки. Материалы 47 н. метод, конфер. препод, и студентов. Ставрополь, 2002.
178. Ушакова Т.Н. Павлова Н.Д. Зачесова И.А. Роль человека в общении. -М., 1989.
179. Факторович А.Л. О функциональном описании неполных предложений // Функциональное описание языка в целях преподавания. М., 1985.
180. Федорова Л.А. О двух референтных планах диалога // Вопросы языкознания. 1983. №5.
181. Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров. // Вопросы языкознания. 1997. № 5.
182. Филимонов О.И. Скрепа фраза и ее реализация в имплицитной и эксплицитной формах // Филол. науки. Материалы 47 н.-метод. конфер. препод, и студентов. Ставрополь, 2002.
183. Фирсова Е.В. Национально-культурная специфика речевого поведения русских и немецких авторов: синтактико-прагматический аспект. Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2003.
184. Фортуна О.Н. Разноуровневые средства выражения интенсивности и негации и их стилистические функции в языке прозы А. П. Чехова (1890 1900-х гг.). Автореферат диссертации к. филол. н. Ростов н/Д, 2001.
185. Хализев В.Е. Речь как предмет художественного изображения // Литературные направления и стили. МГУ. 1976.
186. Цурикова JI.B. Проблематика естественности дискурса в межкультурной коммуникации. Воронеж, 2002.
187. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // Вопросы языкознания. 1996. № 2.
188. Чесноков П.В. О предикативности как свойстве предложения // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Ленинград, 1975.
189. Чесноков П.В. О соотношении предикативности и актуального членения предложения // Языковые единицы: логика и семантика, функции и прагматика: Сб. науч. трудов. Таганрог, 1999.
190. Чиркова Н.И. Конструкция с прямой речью в текстовой зоне диалога // Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц. Межвуз. сб. науч. трудов. Ленинград, 1990.
191. Чистякова А.Л. О ПС в диалогической речи // Русский язык в школе. 1965. № 1.
192. Чувакин A.A. Эллиптичность слова и предложения в ситуативно речевом блоке // Семантико-стилистические аспекты функционирования языковых единиц. Барнаул, 1986.
193. Чувакин A.A. Ситуативная речь. Барнаул, 1987.
194. Шапиро РЛ. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется // Языковое общение и его единицы: Межвуз. сб. науч. трудов. Калинин, 1986.
195. Шахматов A.A. Синтаксис русского текста / Под ред. Е. С. Истриной. -М., 1941.
196. Шаховский В.И. Языковые стили и их конвергенция в художественном произведении//Филологические науки. 1994. №2.
197. Шведова Н. Ю. К изучению русской диалогической речи // Вопросы языкознания. 1956. № 2.
198. Шевякова В.Е. К вопросу о логическом ударении // Вопросы языкознания. 1977. № 6.
200. Шелгунова JI.M. Указание на речежестовое поведение персонажей в русской прозе // Филологические науки. 1982. № 5.
201. Ширяев E.H. Реплики диалога как предложения // Русский язык в школе. 1966. № 6.
202. Ширяев E.H. Синтаксис высказывания в разговорной речи // Русский язык в начальной школе. 1981. №4.
203. Щепкина И.Г. Модальность вопросно-ответных образований в немецком и русском языке; специфика их проявления// Экологический вестник науч. центров Черномор, экономич. сотрудничества. Прилож. 2004.
204. Щерба JI.B. Языковая система и речевая деятельность. Ленинград, 1974.
205. Энциклопедия «Русский язык». М., 1979.
206. Юхт В.Л. О синтаксической природе реплик диалога (к изучению синтаксических особенностей английской разговорной речи) // Вестник Харьковского университета. Вып.2. Сер. «Иностранные языки». Харьков, 1969.
207. Якубинский Л.П. Избранные работы: Язык и его функционирование. -М, 1986.
208. Янко Т.Е. О понятиях коммуникативной структуры и коммуникативной стратегии // Вопросы языкознания. 1999. № 4.
209. Список источников лингвистического материала:
210. Айзенберг М. Тайные рычаги. Знамя. 2001. №3.
211. Бабильский Д. Нодельма.- Новый мир.-2004.-№5.-с.6-31.
212. Булгаков М. Собачье сердце.-М.,1995.
213. Быков Д. Оправдание. М., 2001.
214. Вознесенский А. Аксиома самоиска. СП «ИКПА». 1990.
215. Вознесенский А. Антимиры. Избранная лирика. М., 1964.
216. Высоцкий В. Нерв. М., 1988.
217. Гиголашвили Д. Дезертиры. М., 2001.
218. Гладилин А. Прогноз на завтра. М., 2001. Ю.Гостева А. Притон просветленных. - М., 2001.
219. Гришковец Е. Рубашка. М., 2004.
220. Донцова Д. Дама с коготками. М., 2003.
221. Донцова Д. Микстура от косоглазия. М., 2002.
222. Донцова Д. Чудеса в кастрюльке. М., 2003. 15.3айончковский О. Петрович. Октябрь. 2002. № 12.
223. Кантеева Н. Контр дане. Октябрь. 2003. № 12.
224. Комсомольская правда (КП). 2003-2004.
225. Краскова В. Серые кардиналы Кремля. Минск. 1999.
226. Кудасова И. Циники. Знамя. 2001. № 5.
227. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. Т.1. Ленинград. 1979.
228. Литвинова A.B., Литвинов C.B. Предмет вожделения №1. -М., 2004.
229. Лукьяшко С. Ночной дозор. М., 2003.
230. Малецкий Ю. Привет из Калифорнии. М., 2001.
231. Москвина М. Мусорная корзина для алмазной сутры. Знамя. 2001. № 3. 25.Окуджава Б. Избранное. Ростов н/Д. 2001.
232. Пушкин A.C. Капитанская дочка. Собрание сочинений. Т.2.- М., 1994.
233. Рубина Д. Высокая вода венецианцев. М., 2001.
234. Рубцов Н. Стихи. М., 1986.
235. Северянин И. Лирика. Ленинград. 1991.
236. Слаповский А. День денег. М., 2000.31 .Толстой А.Н. Хождение по мукам: Трилогия. М., 1985.
237. Толстой А.Н. Петр Первый: Роман. М., 1983.
238. Толстой А.Н. Чудаки; Хромой барин; Егор Абозов: Романы. М., 1985.
239. Устинова Т. Пороки и их поклонники. М., 2002.
240. Цветаева М. Стихотворения и поэмы. Ленинград. 1990. Зб.Чехов А.П. Собрание сочинений. Т. 2. -М., 1998.
241. Чуковская Л. Памяти Тамары Григорьевны Габбе. Знамя. 2001. № 5.
242. Шолохов М. Тихий Дон: М.А. Шолохов. Собрание сочинений в восьми томах. Т 1-4.- М„ 1980.
243. Щербакова Г. Лове стория. - М., 2001.
Введение
Глава 1. Теоретические основы исследования 10
1.1. Диалогическая речь как объект исследования 10
1.2. Диалог в антропоцентрическом аспекте 21
1.3. Проблема структурирования и функционирования диалогических единств 26
Глава 2. Структурно-семантическая специфика диалогических единств 39
2.1. Предпосылки формирования ДЕ 39
2.1.1. Валентность единиц языка и прогрессия текста 39
2.1.2. Взаимодействие способов реализации связности и коммуникативной цельности ДЕ 43
2.2. Структурные типы ДЕ 47
2.2.1. Двучастные структуры 48
2.2.2. Многочастные структуры 51
2.3. Структурные и функционально-смысловые особенности реплик ДЕ.. 59
2.3.1. Минимизация вербальных средств и вариативность контактирующих реплик ДЕ 62
2.3.2. Эллипсис как характерная особенность ДЕ 67
2.4. Реплики ДЕ - нечленимые предложения и междометия 76
Глава 3. ДЕ в коммуникативно-прагматическом аспекте 84
3.1. Дискурсивная обусловленность смысла ДЕ 84
3.2. Косвенные и скрытые смыслы 87
3.3. Структурные средства актуализации коммуникативных ролей в ДЕ. 97
3.4. Модальность реплик ДЕ 100
3.5. Взаимодействие функциональных разновидностей реплик ДЕ при выражении различных речевых актов 104
3.5.1. ДЕ с репликой-стимулом - побудительным предложением... 105
3.5.2. ДЕ с репликой-стимулом - вопросительным предложением.. 107
3.5.3. ДЕ с инициирующей репликой - повествовательным предложением 109
3.5.4 Диалогическая цитация как реплика-реакция ДЕ 112
3.6. ДЕ, выражающие различные жанры речевого общения 128
3.7. Взаимодействие диалога и монолога в процессе текстообразования.135
Выводы 144
Заключение 146
Библиографический список 151
Введение к работе
Данное исследование посвящено комплексному и многоаспектному описанию диалогических единств (ДЕ) как структурных единиц, обеспечивающих динамику художественного или публицистического текста.
Изучение языка в его динамике предполагает прогрессирующее расширение синтагматической базы исследования, вплоть до обращения к завершенным речемыслительным произведениям, текстам и их составляющим - сверхфразовым единствам (СФЕ) как монологическим, так и диалогическим.
Но в большинстве своем исследования в сфере лингвистики текста направляются на изучение структуры, семантики и функций сложных синтаксических целых (ССЦ), представляющих собой авторские монологи. Диалоги в этом случае рассматриваются лишь как своеобразное «вкрапление» в текст рассказа, описания или рассуждения, которое служит средством репрезентации так называемого «персонажного плана» этих функциональных разновидностей речи. Как самостоятельный предмет исследования диалоги выступают в работах по разговорной речи.
Изучением диалога занимались многие отечественные лингвисты (Л.В.Щерба, Л.ПЯкубинский, Г.О.Винокур, Н.Ю.Шведова и др.). Интерес к сверхфразовым диалогическим единицам не ослабевает и в наши дни. Лингвисты стали больше внимания уделять изучению диалогических отношений в силу того, что они, буквально, пронизывают все, что связано с деятельностью человека. Это нашло отражение в ряде интересных и глубоких исследований отечественных ученых (Н.Д.Арутюнова, А.А.Леонтьев, А.Н.Баранов, Г.Е.Крейдлин, Е.В.Падучева, Д.И.Изаренков, М.К. Милых, И.Н.Борисова, С.Г.Агапова, Н.В. Изотова и др.).
Интерес ученых к диалогу объясняется необходимостью углубления и конкретизации лингвистических представлений о принципах и закономерностях использования языка человеком. Эта потребность, в свою оче-
5 редь, диктуется очевидной необходимостью качественного обучения языку, и более широко - необходимостью повышения гуманитарной и, в частности, филологической культуры общества.
Мы исходим из предположения, что решение указанных задач возможно в русле антропоцентрического подхода к анализу единиц языка. А это предполагает необходимость исследования самого языка как развивающейся диалогической системы, в центре которой находится человек с его коммуникативными потребностями. Следовательно, диалог должен интерпретироваться исследователями текстовых единиц как самостоятельный объект исследования, обладающий специфическими свойствами как структурно-семантического, так и коммуникативно-прагматического плана.
Таким образом, изучение диалога и особенно диалогической речи в тексте художественного произведения может быть более результативным и эффективным в том случае, если, во-первых, он исследуется в тесной связи с речевым поведением участников коммуникации, во-вторых, его единицы рассматриваются комплексно и всесторонне, в-третьих, учитываются взаимосвязь и взаимодействие диалогических цепочек и монологических единств.
Ориентация на многоаспектный подход к исследованию реплик, включающий структурно-семантический, коммуникативный и прагматический уровни изучения продиктована уверенностью в том, что нельзя получить положительный результат при рассмотрении исследуемых явлений только с какой-либо одной точки зрения.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью исследования ДЕ в русле антропоцентрического подхода, предполагающего комплексный и всесторонний анализ специфики их строения и функций; уточнения статуса, типологии и делимитации этих единств, а также определения характера связи ДЕ как компонента текста с монологическими единствами, и взаимодействия пропозиционального и модусного содержания обоих типов единств в процессе тексто- и смыслообразования.
Объект данного исследования - диалогическая речь.
Предметом исследования являются диалогические единства как компонент художественного и публицистического текста.
Целью исследования является комплексное и всестороннее описание диалогических единств современного русского языка, формирующихся и функционирующих в художественной литературе и публицистике.
Реализация цели потребовала решить следующие задачи:
Охарактеризовать предпосылки образования и функционирования
ДЕ как тексто- и смыслообразующего фрагмента письменной формы речи;
Определить структурно-семантические особенности реплик-
стимулов и реплик-реакций,- а также средства формирования цельности и
связности ДЕ;
выявить функционально-прагматическую специфику как реплик ДЕ, так и единств в целом;
представить типологию речевых актов реализуемых в ДЕ;
установить роль ДЕ в формировании различных типов, или жанров человеческого общения;
исследовать характер взаимосвязи ДЕ и ССЦ в рамках художественного и публицистического текстов.
Методы исследования. Решение поставленных задач обеспечивается применением метода лингвистического наблюдения и описания, а также использованием приемов трансформации, элементов компонентного, дистрибутивного и контекстуального анализа диалогических единств.
Материал исследования. Эмпирической базой исследования являются произведения художественной литературы (А.НТолстого, А.П.Чехова, М.Шолохова, М.Цветаевой, А.Вознесенского, Г.Щербаковой, Д.Донцовой и др.), а также статьи из газеты «Комсомольская правда», Интернета.
Достоверность положений и выводов подтверждается анализом большого фактического материала (картотека фактического материала со-
7 ставила около 5000 примеров). В отдельных случаях привлекались к рассмотрению и единства из устной разговорной речи.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые ДЕ проанализированы комплексно в структурно-семантическом и коммуникативно-прагматическом аспектах; впервые реплики диалога рассматриваются с позиций выявления их интенционального и тексто- и смыслообразую-щего потенциала в письменной речи. В диссертации впервые предпринята попытка рассмотрения различных планов взаимодействия пропозициональное и модальности (объективной и субъективной) реплик и ДЕ в целом, с одной стороны, и конситуации, с другой, в актуализированной прозе, характеризующейся т.н. «рубленым синтаксисом». Новизна усматривается и в попытке выявить роль реплик и ДЕ в целом в осуществлении связности как самого единства, так и авторских монологов с ДЕ.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ней уточняется понятие «диалогическое единство», а также типология ДЕ, участвующих в формировании текстов разных функциональных типов в произведениях современной художественной литературы и публицистики, приводятся дополнительные доказательства положения о том, что диало-гизация текстов весьма продуктивный способ использования потенциала разговорной речи. Благодаря этому достигается «раскрепощенность» стиля: обилие неполных предложений, скрытых смыслов и других средств, в частности диалогической цитации, способствующих тому, что увеличивается количество перлокутивных речевых актов, результатом чего является активизация речевого воздействия на читателя.
Практическая ценность работы заключается в возможности использования материалов и выводов по результатам анализа в дальнейшем изучении ДЕ, а также в преподавании современного русского языка и стилистики, при разработке спецкурсов и спецсеминаров по синтаксису русского языка.
8 На защиту выносятся следующие положения:
Формирование реплик диалога и ДЕ в целом как фрагмента художественного или публицистического текста обусловлено интенциями участников коммуникации, наличием зоны пересечения макро- и микропресуппозиций. При этом интерактанты исходят из того, что потенциальная структурная и семантическая соотнесенность реплик прогнозируется валентностями текстового окружения. Лексико-семантические узлы предтекста задают темы (и микротемы) реализуемого смысла высказываний и соответствующие границы ДЕ, которые квалифицируются по количеству реплик и смысловых взаимоотношений между ними. Невербализованное звено реплик как тексто- и смыслообразующий элемент ДЕ оказывается чаще всего «сильным» и значимым фактором, обеспечивающим успех коммуникации. ДЕ представляются репликами-стимулами и репликами-реакциями, выраженными различными типами предложений по цели высказывания. При этом сохраняется целостность ДЕ.
Особую роль в организации функционирования диалога играют прагматические условия, которые представлены триадой «адресант (инициирующий диалог) - внеречевая ситуация - адресат». Специфика ДЕ с точки зрения функционально-прагматической состоит в том, что кодирование и декодирование смысла в рамках этих единств обусловливает отсылку не только к говорящему и адресату как главным составляющим речевого акта, но и к прагматическим макро- и микропресуппозициям, к общему фонду знаний. Реплики речевого акта приобретают иллокутивную силу и обеспечивают эффект активного воздействия на собеседника, функционируя не изолированно, а в связном коммуникативном контексте, в котором широко используются не только формальные, но и не формальные связи, как прямые так и косвенные речевые акты.
Функционально-прагматические разновидности ДЕ предопределяются объективной модальностью реплики-стимула (ирреальная модальность - либо вопросо-ответное единство, либо единство с репликой-стимулом побудительным предложением, а реальное единство с репли-
9 кой-стимулом повествовательным предложением), что касается модальности реплик-реакций, в каждой из трех разновидностей ДЕ, то они активно варьируют в диапазоне объективной модальности реальность - ирреальность. В русском языке выделяют по три разновидности ДЕ (для реализации речевых актов: побуждения, поиска информации, сообщения), а также единства диалогической цитации и с различными комбинациями и переплетениями речевых актов в репликах многочастных ДЕ.
В основных типах речевых актов используются различные структурные и функциональные типы реплик-стимулов и реплик-реакций, которые обеспечивают разноплановость и разнонаправленность диалогов.
Целенаправленность ДЕ в тексте и успешность коммуникативного акта зависят от пространственных и временных координат, в которых он осуществляется, и базируется на наличии у коммуникантов адекватного общего объема фоновых знаний по пропозициональному и модусному содержанию каждой из реплик диалога. Реплики ДЕ как варианты определенных речевых актов участвуют в формировании разных речевых жанров, приобретают иллокутивную силу перлокутивных речевых актов. Особенно выразительным примером такого акта является реплика-реакция, которая называется диалогической цитацией.
В художественном и публицистическом тексте и ДЕ и авторский монолог выступают как взаимосвязанные фрагменты общего повествования и образного полотна произведения. Прерываемые и дополняемые по воле автора ДЕ и ССЦ развиваются во взаимодействии друг с другом.
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации отражены в девяти публикациях. Их содержание изложено на региональных и международных конференциях: «Актуальные проблемы общей и адыгской филологии» Международная научная конференция. Майкоп. 2003; «Язык. Дискурс. Текст» Международная научная конференция, посвященная юбилею В.П. Малащенко. Ростов н/Д. 2004.
Сгруюура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, содержит список научной литературы и список литературных источников.
Диалогическая речь как объект исследования
Речевая деятельность человека есть явление многогранное и многообразное. Многообразие это проявляется в существовании как бесчисленного множества отдельных языков и наречий внутри данного языка, говора, так и различных типов и форм речи и определяется всем сложным разнообразием факторов, функцией которых является человеческая речь.
Современные исследования диалогической речи едва ли возможны без обращения к ее пониманию, к разработке отдельных аспектов диалога.
Отправным моментом в исследовании диалогической речи явилось высказывание Л.В. Щербы, сделанное им на основе изучения языка лужицких сербов. Л.В. Щерба пришел к выводу о том, что монолог является в значительной степени искусственной языковой формой и что подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге.
Мнение Л.В. Щербы о первичности диалога поддержал Л.Б. Яку-бинский, написавший первую большую работу о диалогической речи. Высказывания Л.В. Щербы и работа Л.Б. Якубинского привлекли внимание исследователей к разработке проблем диалогической речи, принципиально указали на различие монолога и диалога как двух функциональных разновидностей языка, наметили целый ряд направлений в исследовании диалогической формы высказывания, прежде всего грамматическое и психологическое.
М.М. Бахтин, намечая обширную программу будущих исследований гуманитарных наук, указывает на необходимость решения таких задач, как своеобразие природы диалогических отношений, сущность внутреннего диалогизма, рубцы межей высказываний, двуголосие слова, понимание диалога. Благодаря решению указанных вопросов исследователь подходит к переднему краю философии языка и вообще гуманитарного мышления, к «целине» (М.М. Бахтин 1996: 49).
Для М.М. Бахтина, как и для многих современных исследователей речевого общения, характерны две трактовки диалога: в широком и в узком понимании. Диалог в широком смысле есть встреча двух сознаний, и с этой точки зрения недиалогической речи нет, любой текст всегда «дву-планов» и «двусубъектен». Диалог включается в представление о коммуникативной сущности языка как общественного явления. Необходимое присутствие партнера как сущностная характеристика диалога интерпретируется в этом случае как возможность, которая может быть рано или поздно реализована, т.е. партнер понимается в предельно широком плане как человечество во все времена и в неограниченном пространстве. В связи с этим утрачивается традиционное противопоставление диалогической и монологической речи, ибо любые формы речи предполагают адресата -реального или потенциального. Диалогические отношения восстанавливаются не внутри текста, а между несколькими текстами (от двух до бесконечности), и вся мировая литература, взаимодействие национальных литератур и направлений, преемственность литературных традиций трактуются как диалог.
Современные философы говорят о диалогической природе понимания, рассматривая его как результат диалогического взаимодействия, осуществляемого через текст. Диалог предназначается свойствам мышления, теоретическое мышление трактуется как внутренний диалог, акт мышления - как социальный акт общения. Диалогичность в широком смысле рассматривается как условие жизни человека, как предпосылка существования человеческого общества. По мнению М.М. Бахтина, «жизнь по природе своей диалогична. Жить - значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, отвечать, соглашаться и т.п.» (М.М. Бахтин 1996: 89).
Во многих работах, которые посвящены проблемам личности и в которых подчеркивается существенная роль диалога, также встречаются заслуживающие внимания суждения типа «внутренний мир личности диалогичен»; «подлинное познание личности доступно лишь диалогическому проникновению» (В.И. Лагутин 1991: 5). . Диалог в широком понимании трактуется как функциональная разновидность речи, вид речи, тип коммуникации, реализация которых создает особый тип текста.
Предпосылки формирования ДЕ
Связный текст - это продукт устной или письменной речевой деятельности, состоящий из ряда коммуникативных единиц - высказываний, оформленных как самостоятельные простые либо сложные предложения или даже как сложные синтаксические целые. Эти элементы, как отмечают исследователи, естественно, предполагают наличие эксплицитного или имплицитного предтекста и посттекста. Следовательно, - подчеркивает Милевская Т.В.,- «текст можно представить как цепочку компонентов синтаксического ряда, которая образуется и развивается по мере необходимости в передаче определенных смыслов. Этот ряд представляет собой определенную последовательность, задаваемую элементами, находящимися в исходной сильной позиции (заголовками, семантическими узлами). Причем эта позиция предопределяет не только появление, но и структурно - семантические модификации последующих элементов. Каждое звено цепочки обнаруживает связь со своими «партнерами» в условиях как текстовой проспекции, так и ретроспекции» (Т.В. Милевская 2003: 207-208).
Ряды указанных высказываний, или фраз, объединенных определенной темой, квалифицируются в лингвистике текста как сверхфразовые единства (СФЕ). Монологические СФЕ - это сложные синтаксические целые (ССЦ), а цепочки реплик - диалогические единства. Их минимальный количественный состав - две фразы, максимальный - три и более (в зависимости от потребности в реализации темы или микротемы, задаваемой (или развиваемой) элементом высказывания или текста, находящимся в сильной позиции, т.е. начала текста). Влияние сильной позиции на форми 40 рование структуры и семантики каждой реплики и ДЕ в целом - это линейное развитие текста на основе синтагматических отношений единиц ряда.
Исследователи диалогической формы речи отмечают, что она создается как сложная организация высказываний, специфика которой предопределяется не только характером коммуникативной ситуации, но и другими факторами, вытекающими из общих особенностей коммуникативного акта и правил формирования текста.
Диалогическое единство является формой интеракции двух или нескольких собеседников, которые обмениваются репликами - высказываниями, представляющими собой стимулы к реакциям или реакции на стимулы, в результате чего говорящими создается определенный общий контекст.
«Для реплики, как единицы диалога, подчеркивает О. Кафкова,- характерна потенциальная смысловая соотнесенность с другой (предыдущей или последующей) репликой, по отношению к которой она может быть стимулом или реакцией. В определенной позиции (внутри диалогического сцепления) реплики могут быть одновременно и реакцией и стимулом. Реплика может соотноситься с другой не полностью, а только в какой-то своей части» (О. Кафкова 1987: 87).
Потенциальная смысловая соотнесенность как компонентов реплики, так и самих реплик обусловлена лексико-семантическими узлами, лежащими в основе текстовой валентности; внутренние и внешние заполненные текстовые валентности и составляют то, что называется «знанием» текста (Н.Н. Леонтьева 1998: 49).
Лексемы и фразеологизмы языка, репрезентирующие денотативно-понятийную сферу, сочетаются в синтагматическом ряду по законам семантического согласования и соотносительности единиц со сходными значениями на основе ассоциативных связей и выступают как определяющий фактор смысло- и текстообразования отдельных реплик-высказываний, а также последовательных коммуникативных единиц в сверхфразовых объединениях, диалогических и монологических. Эти номинации, их последовательности (номинативные цепочки) и «работают» на тему или микротемы фрагмента текста как целого.
Анализируя роль указанных средств в реализации лексической коге-зии, исследователи отмечают важную роль слов, прогнозирующих именно появление семантического партнера, вступая с ним в синонимические, антонимические, гиперогипонимические и другие отношения парадигматического плана.
Названные выше соотношения лексем наблюдаются и в ДЕ. См. пример лексических цепочек, отражающих смену микротем и их развитие в небольшом фрагменте из рассказа А.П.Чехова «Петров день».
Усевшись в тарантасы, охотники порешили оставить перепелов в покое и согласно маршруту проехать еще пять верст - к болотам.
Дискурсивная обусловленность смысла ДЕ
Диалог характеризуется тем, что в нем с наибольшей отчетливостью проявляется личностное начало интерактантов, отражающее взаимонаправленность реплик по линии «Я - другой», и обеспечивающее успех коммуникации, а именно на это рассчитывает и надеется тот, кто инициирует дискус. Этот замысел говорящего ясен и для «другого», к которому он обращается и которому он что-то сообщает, что-то доказывает, обещает, предлагает, от которого что-то требует, ждет положительной реакции на просьбу и т.д.. Те же речевые действия (речевые акты) выполняет в соответствии с интенциями говорящий адресат.
«Речевое обращение, инициируемое говорящим (пишущим), - отмечает В.П. Малащенко, - и поддерживаемое (опосредованно или непосредственно) адресатом речи, - это своего рода вторжение в сознание человека, направленное на построение в его когнитивной системе определенной языковой картины мира.» (В.П. Малащенко 2004: 352).
Истинный смысл коммуникации, как мы видим, состоит в выражении не только интенции автора и референции, пропозиционального содержания, но и модальности и эмотивности. Кодирование адресантом и декодирование адресатом смыслового компонента в рамках диалога обусловлено прагматически, ибо предполагает отсылку к говорящему или слушающему как главным прагматическим составляющим речевого акта и к прагматическим пресуппозициям, общему фонду их знаний, а также учет того, как коммуниканты меняются речевыми ролями, оценивают свой диалог.
Приступая к общению, адресант вначале определяет для себя проблему и предмет речи. Следующим этапом является выбор им синтаксической конструкции, позволяющей инициировать появление определенного типа синтаксической единицы, способной выразить ту или иную разно 85 видность речевого акта той или иной целенаправленности и модели. Как показывает анализ ДЕ, для каждой референтной ситуации та или иная модель может оказаться более предпочтительной. Таковыми являются типичные, наиболее частотные и естественные функциональные разновидности высказываний.
Высказывание как вариант определенного речевого акта приобретает иллокутивную силу и обеспечивает перлокутивный эффект (воздействие на адресата) не изолированно, а если оно является компонентом связного коммуникативного контекста (монологического, диалогического или смешанного) (В.П. Малащенко 2004:254).
Прагматическая функция речевого акта, подчеркивает А.С. Наринь-яни, характеризует его как акт воздействия говорящего и на среду, и на самого себя, и на адресата (А.С. Нариньяни 1985:86).
Специфика диалогических единств с точки зрения функционально -прагматической состоит как в отчётливо выраженной целенаправленности высказываний коммуникантов, меняющихся ролями, так и в большой роли их общих фоновых знаний, микро- и макропресуппозиций. Существенную роль при функциональном анализе высказываний представляют и смысловые фантазии (прямые и косвенные речевые акты и скрытые смыслы и средства их организации), а также номинальные ресурсы языка для диктума и модуса. На этих аспектах и сосредоточено внимание в данной главе.
Особая роль в разговорном дискурсе (в связном тексте в совокупности с экстралингвистическими - прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами) принадлежит прагматическим условиям, которые образуют адресант - ситуация - адресат.
Поскольку диалог предполагает равное участие в коммуникации её партнёров, в диалоге особенно ярко и последовательно проявляется опора на так называемые предельно насыщенные фоновые знания (общие для всех и частные, характерные для определенного микроколлектива). Эти знания объединяют адресата и адресанта и входят в коммуникацию. Е.Н. Ширяев отличает такие существенные свойства диалога, непосредственно связанные с его дискурсом, как широкое использование неформальных связей в диалогических текстах и активность косвенных речевых актов (Е.Н. Ширяев 1981).
Диссертация
Поляков, Сергей Михайлович
Ученая cтепень:
Кандидат филологических наук
Место защиты диссертации:
Код cпециальности ВАК:
Специальность:
Германские языки
Количество cтраниц:
ГЛАВА I. СТРУКТУШ0-К0Ш03ИЦИ0ННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СЛОЖНЫХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ С ОДНОСТОРОННЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ .
Раздел I. Структурные особенности сложных диалогических единств с односторонней организацией.
1. Структура тематических компонентов односторонних единств
2. Структура нетематических компонентов односторонних единств
3. Типы односторонних единств по количеству компонентов.
Раздел II. Композиционно-речевые формы сложных диалогических единств с односторонней организацией
1. Композиционно-речевая форма как объект лингвистического исследования
2. Диалог-повествование
3. Диалог-описание
4. Диалог-объяснение
5. Диалог-извещение
6. Диалог-побуждение
6.1. Диалог-просьба.
6.2. Диалог-инструкция.
6.3. Диалог-приказ
7. Диалог-вопрос
8. Смешанные типы одностороннего диалога. 94"
Б ы в о д ы.
ГЛАВА II. СРЕДСТВА СВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ ОДНОСТОРОННИХ
ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ.
1. Контактные межкомпонентные связи
1.1. Коррелятивная связь.
1.2. Интродуктивная связь
2. Дистантные межкомпонентные связи.
2.1. Ретроспективная связь
2.1.1. Конъюнкционная связь
2.1.2. Коррелятивная связь
2.2. Проспективная связь
2.3. Взаимная связь
В ы в о д ы.
Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Сложное диалогическое единство с односторонней организацией (на материале современного английского языка)"
Как известно, язык существует в виде устной речи и письменной речи. Письменная речь, в отличие от устной, характеризуется более строгим соблюдением литературной нормы данного языка. Тем не менее, автор художественного произведения в ходе изображения событий воспроизводит и речь людей, принимающих участие в развитии этих событий. На воспроизведении речи людей основан, в частности, текст драматических произведений. Речь персонажей драматического произведения осуществляется в диалогической форме и отражает основные языковые и параязыковые особенности устного общения. Таким образом, наблюдая над диалогической речью в передаче писателя и особенно драматурга, мы можем получить существенные данные о ее объективных строевых свойствах. Поэтому в качестве материала для исследования в данной работе мы выбрали пьесы современных британских и американских авторов.
Важным достижением теории диалога явилось включение диалогического единства в исследовательскую область синтаксиса . Диалогическое единство было определено Н.Ю.Шведовой как "обмен двумя высказываниями , из которых второе зависит от первого, "порождено" игл и в своей языковой форме непосредственно отражает эту зависимость" /1Пведова, 1960:280/.
Понятие диалогического единства прочно вошло в лингвистическую теорию диалога, ему посвящен целый ряд работ /Святогор, 1960а; Маркина, 1973а; Алимурадов , 1981 и др./. Возможность вычленения такой синтаксико-коммуникативной единицы вытекает из опыта лингвистического анализа диалогической речи как русского, так и других языков.
Наибольшее освещение в лингвистической литературе получили диалогические единства, состоящие из двух компонентов: вопросно-ответные единства и единства, основанные на лексическом повторе и подхвате. Однако при более пристальном рассмотрении оказывается, что целый ряд речевых комплексов невозможно свести к двухкомпонентным диалогическим единствам. Например, следующее сложное диалогическое единство нельзя представить как простое соположение двучленных единств:
Pamela. What games did you play in Germany?
Walter. I - I used to walk.
Pamela. You mean on hiking parties, all dressed up in those leather shorts?
Walter. No. By myself. I liked it better. (Drama, p. 99) Все реплики этого сложного диалогического единства связаны с начальной репликой при помощи нулевых форм, импликации , прономинализации и т.д.; все они построены вокруг единого смыслового центра " games
Сложное диалогическое единство с односторонней организацией является частным типом сложного диалогического единства. Поэтому, рассматривая во введении проблему выделения сложного диалогического единства с односторонней организацией как единицы текста, мы говорим о сложном диалогическом единстве вообще, так как все типы сложного диалогического единства будут подчиняться общим закономерностям построения и функционирования этой значимой единицы языка.
При определении сложного диалогического единства мы следуем предложенному О.И.Москальской положению о том, что "членение развернутого диалога-беседы на диалогические единства имеет в принципе те же основания, что и членение монологической речи, а именно одновременный учет показателей семантической /тематической/, коммуникативной и структурной целостности и, при том - в тех ее проявлениях, которые наиболее характерны для диалогической речи" /Москальекая , 1981:50/.
Однако здесь необходимо отметить, что диалогическая речь принципиально отличается от монологической в том плане, что она представляет собой речевое произведение более чем одного коммуниканта /двух и более/, и этот факт накладывает определенный отпечаток на характер употребления языковых средств в диалоге. Для диалога характерны встречные связи, в то время как для монолога - присоединительные . Кроме того, диалогу свойственно употребление специальных форм коммуникативной установки, которые обслуживают языковое диалогическое общение /Блох, 19736: 198/. Таким образом, распределяясь между двумя или несколькими коммуникантами , тема диалога резко отличается от темы монологического высказывания . Тема диалога обладает большим динамизмом, активностью, в то время как монологическое высказывание является более завершенным, закрытым в семантическом плане /Гельгардт, 1971:145/.
Традиционно принято рассматривать какой-либо отрезок диалогической речи как состоящий из определенного количества реплик . Последние определяются как отрезки диалога от начала речи одного партнера до смены говорящего /Трофимова, 1964:4; Винокур Г.О., 1948:35/. Однако такое деление не позволяет увидеть подлинной картины языковой организации диалогической речи.
Диалог как языковая категория есть обмен такими высказыва- 1 ниями, которые естественно порождаются одно другим в процессе разговора. Эта взаимосвязанность высказываний в диалоге есть всегда взаимосвязанность смысловая и коммуникативная; в пределах данной микротемы она закреплена средствами языковых надпред-ложенческих связей. Некоторые реплики находятся в такой тесной взаимосвязи с окружающими их репликами , что в отрыве от окружения они теряют свою самостоятельность как коммуникативные единицы. "Языковые грани между такими репликами в значительной мере стерты, высказывания, принадлежащие разным участникам разговора, здесь настолько тесно связаны и структурно взаимообусловлены, что их нельзя рассматривать иначе, как особое коммуникативное и структурно-грамматическое объединение, которое. называется. диалогическим единством" /Святогор, 1960а:3/.
Большинство лингвистов при определении диалогического единства в качестве основного критерия указывают грамматическую /структурную/ и коммуникативную взалмосвязанность компонентов /1Пведова, I960; Глаголев, 1969; Святогор, 1960а/. Однако в ряде работ убедительно показано, что семантический аспект неотделим от высказывания и что его необходимо учитывать при определении диалогического единства /Пенысова, 19726; Тешшцкая, 1975/.
По словам К.Маркса "форма лишена всякой ценности, если она не есть форма содержания" /Маркс и Энгельс, 1955:159, т.1/. Значит, если есть какое-то содержание /семантика /, то оно должно быть определенным образом оформлено, т.е. должно обладать своей формой - грамматикой. Именно поэтому мы проводим изучение диалогического единства по пути раскрытия определенных закономерностей отражения в языковых формах некоторой семантики этого диалогического единства. Естественно, что семантико-тематичес-кая цельность единства всегда будет выражаться синтаксическими или лексическими показателями связности компонентов этого единства.
Диалектическое единство содержания и формы предполагает ведущую роль содержания по отношению к форме. Поэтому при определении сложного диалогического единства в качестве основного критерия мы будем использовать семантико-тематическую цельность единства, а исследование будем проводить от установления общности темы к выявлению грамматических средств выражения этой общности.^/
Связность является одним из основных признаков единиц текста - сверхфразоввгх единств и диалогических единств. Связность вытекает из единства темы. Связным можно считать "такой отрезок текста, который содержит в себе информацию, заложенную в предшествующих компонентах текста" /Брчакова , 1979:250/.
Принимая семантическую связность, определяемую, прежде \ всего, единством темы, за один из основных критериев выделения! сложного диалогического единства, мы приходим к выводу, что каждому сложному диалогическому единству свойственно наличие некоторого смыслового центра, вокруг которого это единство строится. М.Я.Блох отмечает, что общая идея о последовательности предложений, формирующих текст, предполагает наличие единой информативной цели компонентов этого связного семантического комплекса, или четко выраженного тематического отрезка речи. "Только в этом смысле текст может рассматриваться как языковой элемент с двумя характерными для него чертами: во-первых, семантической /тематической/ цельностью; во-вторых, семантико-синта-ксической связностью" /Блох, 1983а:363/.
Сложное диалогическое единство можно приблизительно определить как структурно-семантическую единицу диалогического текста, состоящую из трех и более компонентов /встречных высказываний разных участников диалога/, примыкающих к единому смысловому центру и взаимообусловленных семантически , структурно и коммуникативно. J
Смысловой центр сложного диалогического единства можно обнаружить с помощью дескрипторного анализа компонентов единства. Дескриптором называется "знак для выражения понятия, имеющего наибольшее значение для раскрытия существа описываемого явления, его научной интерпретации и классификации" /Ахманова , Никитина, 1965:112/, или "имя класса слов условной эквивалентности" /Певзнер, 1976:7/. Дескрипторы, входящие в смысловой центр сложного диалогического единства, присутствуют в каждом компоненте этого единства либо эксплицитно , либо имплицитно.
Таким образом, сложное диалогическое единство вычленяется нами в потоке диалогической речи по принципу семантической связности компонентов, образующих его внутреннюю структуру и соединенных по определенным грамматическим правилам. Все эти компоненты группируются вокруг смыслового ядра единства, которое может быть выявлено методом дескрипторного анализа.
Одним из центральных вопросов теории диалогического единства является вопрос о его границах и граничных сигналах. Мы сделаем попытку рассмотреть этот вопрос при помощи дескрипторного анализа. Дескрипторный анализ связного монологического текста впервые был осуществлен Н.И.Серковой /Серкова, 1968/. Эмоциональный аспект диалогических единств исследовался с помощью метода дескрипторов в кандидатской диссертации Н.Е.Юдиной /Юдина, 1973/. Общий дескрипторный анализ компонентов сложных диалогических единств до сих пор не проводился.
Мы различаем две основные группы дескрипторов - номенклатурные и релятивные . Первые называют /обозначают/ "предмет, свойство, процесс "статически", как отвлеченно данный" /Ахманова, Никитина, 1965:112/. Вторые же служат для передачи релятив
10 ной информации, так как "дескрипторный язык должен иметь не только "номенклатуру", но и "грамматику ", то есть набор показателей связей единиц в тексте и их функций в нем" /Ахманова, Никитина, 1965:114/.
Как отмечалось выше, сложное диалогическое единство строится вокруг единого смыслового центра. Мы будем называть дескрипторы, входящие в смысловой центр сложного диалогического единства, основными номенклатурными дескрипторами. Смена основного номенклатурного дескриптора сигнализирует границу сложного диалогического единства. Релятивные дескрипторы не могут выступать в качестве основных, так как тема единства задается средствами номинативного характера. Релятивная информация выступает в роли вторичной по отношению к информации номинативной .
Рассмотрим данные положения на конкретном примере. Для анализа используем отрывок из пьесы Г.Пинтера " The Birthday Party ":
Stanley. What"s it out like today? Petey. Very nice. Stanley. Warm?
Petey. Well, there"s a good breeze blowing. Stanley. Cold? -Petey. No, no. I wouldn"t say it was cold. [-Meg. What are the cornflakes, Stan? Stanley. Horrible.
Meg. Those flakes? Those lovely flakes? You"re a liar, a little liar. They are refreshing. It says so. For people when they get up late.
Stanley. The milk"s off. Meg. It"s not. Petey ate his, didn"t you, Petey? Petey. That"s right. L-Meg. There you are then.
Stanley. All right, I"ll go on to the second course. Meg. He hasn"t finished the first course and he wants to go on to the second course! 4 Stanley. I feel like something cooked.
Meg. Well, I"m not going to give it to you. Petey. Give it to him. ^Meg. I"m not going to. (Party, p. 15)
Данный отрезок диалога расчленяется на четыре сложных диалогических единства, выделяемых по принципу тематической связности компонентов. Основными номенклатурными дескрипторами для единств будут, последовательно: it /неопределенно-личное местоимение со значением "состояние атмосферы" в конструкциях типа It is warm. /, cornflakes, milk, second course.
Смена основного номенклатурного дескриптора сигнализирует границу сложного диалогического единства. Например, компоненты No, no. I wouldn"t say it was cold. - What are the cornflakes like, Stan? содержат в себе разные основные номенклатурные дескрипторы и поэтому относятся к разным диалогическим единствам /it - cornflakes/.
Основным номенклатурным дескриптором третьего сложного диалогического единства является существительное milk , содержание которого представлено рядом вариантов milk - it - his - 0. Основной номенклатурный дескриптор milk обязательно входит в смысловое ядро единства The milk is off.
Граничным сигналом сложного диалогического единства будет смена этого основного номенклатурного дескриптора. Проведя дес-крипторный анализ соседних с данным диалогическим единством реплик, мы увидим, что они не содержат дескриптор milk ни эксплицитно, ни имплицитно : Those flakes? Those lovely flakes? You"re a liar, a little liar. They are refreshing. It says so. For people when they get up late. - All right, I"ll go on to the second course.
Будучи "именем класса слов условной эквивалентности", основной номенклатурный дескриптор может быть выражен членами синонимического ряда или парафразами / second course - something cooked /, словами-заместителями или репрезентантами / milk -it - his /, "нулевым" заместителем / Warm? /, где слово it, являющееся основным номенклатурным дескриптором сложного диалогического единства, нулюется.
Основной номенклатурный дескриптор, входящий в состав смыслового /тематического/ ядра сложного диалогического единства, имеет наиболее широкие контекстные связи в рамках микроконтекста данного единства. Например, номенклатурный дескриптор it первого диалогического единства присутствует во всех его компонентах /эксплицитно и имплицитно/ и таким образом контекстуально связан со всеми остальными дескрипторами единства.
При взгляде на диалог сразу бросается в глаза тот факт, что реплики имеют неодинаковую протяженность в плане количества их составляющих. Одни реплики состоят из отдельного слова, другие - из предложения и даже нескольких предложений. В случае, когда реплика состоит из двух и более предложений, возникает вопрос: Каковы семантические отношения между ними? Являются ли они семантически /тематически/ однородными или представляют собой простое соположение двух и более семантически разноплановых высказываний?
Обзор материала показывает, что реплика, состоящая более-чем из одного предложения, может быть как одноплановой, так и разноплановой с точки зрения тематической цельности. В первом случае она составляет кумулятив /см.: Блох, 19736:211/, а во втором части ее входят в разные, хотя и соседствующие друг с другом единицы надфразового уровня. Например:
Admiral. When I took my first ship to sea I used to skip rope around the quarter deck for two hours before breakfast. That"s how I got that stomach you call a beer barrel. Barrel of nails. Give it a punch. You, young girl. Try it. Go on. Don"t be shy. There. See.
Нетрудно видеть, что данная реплика, включающая десять предложений разной протяженности, составляет единый кумулятив.
С другой стороны, в случае, если в состав реплики входят два тематически разнородных высказывания, то одно предложение будет относиться к предыдущему диалогическому единству, а второе - к последующе^:
O"Keef. That all you got to eat. Dangerfield. Kenneth, you are welcome to whatever I possess. O"Keef. Which is nothing.
Dangerfield. I wouldn"t put it that way.
I think you wear too many tight clothes in this town of temptation. O"Keef. I haven"t had these clothes off for three months. etc. (Man, p. 60)
Граница между диалогическими единствами в приведенном примере проходит внутри реплики, состоящей из двух предложений, и четко определяется посредством наблюдения над основными номенклатурными дескрипторами.
Если реплика состоит из двух кумулятивов , то граница между кумулятивами будет границей сложного диалогического единства: Jimmy. And have my enjoyment ruined by the Sunday night yobs in the front row? No, thank you. (Pause.) Did you 1 2 read Priestley"s piece this week? . (Anger, p. 40) Тема диалога может изменяться не только на стыке двух реплик или внутри реплики, состоящей более чем из одного предложения, но также и внутри реплики, включающей лишь одно предложение. В таких случаях диалогические единства частично перекрывают друг друга. Например:
Stanley. Anyway, this isn"t my birthday. McCann. No?
Stanley. No, it"s not till next month. -McCann. Not according to the lady. Stanley. Her? She"s crazy. Round the bend. (Party, p.32) Вышеприведенный отрезок диалога подразделяется на два сложных диалогических единства /второе единство приведено не полностью/. Компонент Not according to the lady является общим для двух единств. Основным номенклатурным дескриптором первого сложного диалогического единства будет существительное birthday , а второго -г lady . Оба дескриптора содержатся в одном и том же компоненте Not according to the lady / birthday имплицируется контекстом/, однако их значимость для соседних диалогических единств различна. Это легко увидеть, если рассматривать сложные диалогические единства порознь: в первом общий компонент является конечным, а во втором - зачинным .
Подобное явление возможно в диалоге благодаря его основному отличительному свойству - двуплановости /или многоплановости/ процесса коммуникации /наличию более чем одного коммуниканта/. Коммуникативная значимость того или иного элемента высказывания может быть изменена получателем информации, который намечает новую тематико-коммуникативную перспективу в рамках реплики, завершающей некоторое диалогическое единство.
Наличие общей пограничной зоны для двух соседних сложных диалогических единств может вызываться также и тем, что говорящий реагирует не на все высказывание собеседника , а лишь на часть его. Такого рода реакция способствует появлению тематической неоднородности или "тематической зыби" /Брчакова, 1979: 259/ как одного из характерных признаков диалогической речи, отличающей ее от монологической.
Итак, часто деление на диалогические единства не совпадает с делением диалога на реплики. В лингвистической литературе реплики подразделяются на два больших класса - монологические и диалогические. Первые определяются как более сложные синтаксические построения, не рассчитанные на непосредственную словесную реакцию собеседника, охватывающие обширное тематическое содержание, в то время как диалогические реплики характеризуются как высказывания, прямо адресованные собеседнику и более простые по тематическому составу и синтаксическому построению /Ахманова, 1969:239,132/.
Р.Р.Гельгардт предлагает подразделять реплики на диалогические и монологические по признаку синсемантичности/автосеман-тичности. Диалогическая реплика относится автором к синсеманти-ческим, композиционно открытым единицам, а монологическая - к автосемантическим , композиционно закрытым единицам организованной речи /Гельгардт , 1971:145/.
Подробный анализ реплик русской диалогической речи с точки зрения их коммуникативной направленности и синтаксического строения осуществлен И.П.Святогором, который пишет, что "реплика является основной строевой единицей диалога и - в большинстве случаев - составной частью диалогических единств и других сложных речевых комплексов, объединяющих в своем составе несколько смежных реплик или частей этих реплик" /Святогор, 1967:19, разрядка наша - С.П./.
В связи с проблемой установления границ сложного диалогического единства возникает ряд вопросов, требующих дальнейшего уточнения.
Во-первых, выше отмечалось, что диалогические реплики могут состоять как из одной конструкции, так и из нескольких. Довольно часто диалогическая реплика состоит из двух сверхфразовых единств, разделенных кумулятивно долгой паузой и интонацией. Однако такую реплику нельзя назвать монологической, так как части ее входят в соседние диалогические единства /примеры смотри выше/.
Во-вторых, монологическая реплика в большинстве случаев неоднородна по своей семантико-синтаксической структуре, часть ее входит в состав диалогического единства и либо начинает, либо завершает его. Начальное или финальное положение части монологической реплики в диалогическом единстве обусловлено тем фактом, что монологическая реплика характеризуется политемностью, смена же темы является граничным сигналом сложного диалогического единства, так как диалогическое единство должно быть монотемным. Поэтому только крайняя /начальная или финальная/ конструкция или кумулятив монологической реплики могут входить в диалогическое единство.
Таким образом, учитывая все вышесказанное становится очевидной необходимость уточнения таких понятий, как реплика и компонент диалогического единства. Мы приходим к выводу, что диалог состоит из следующих единиц:
I/ самостоятельные, автосемантические реплики /монологические реплики или их части, не входящие в диалогические единства/;
2/ компоненты диалогических единств: а/ совпадающие с репликой; б/ меньше реплики.
В условиях устной или письменной коммуникации все высказывания будут подразделяться на относительно автосемантические /монологические/ и синсемантические - компоненты диалогических единств. В дальнейшем мы будем придерживаться терминов "сложное диалогическое единство" и "компонент диалогического единства". Отношение оккурсива, т.е. диалогического единства, к кумуляти-ву, т.е. компоненту диалогического единства, состоящему более чем из одного предложения, есть отношение целого к его части.
В этой связи необходимо установить место оккурсива и куму-лятива в иерархии средств выражения надпредложенческой области синтаксиса. М.Я.Блох пишет, что ". если кумулятив включает в себя два или более предложения, объединенные посредством присоединения, то оккурсив может состоять из двух или более кумуля-тивов, так как высказывания собеседников могут быть образованы не только отдельными предложениями, но также и кумулятивными последовательностями предложений"/Блох, 1983а:364-365/. Следовательно, оккурсив как элемент системы с точки зрения иерархии является элементом более высокого порядка и находится над куму-лятивом.
Как уже отмечалось, диалогическая речь принципиально отличается от монологической в том плане, что семантическая структура диалога является результатом речетворчества двух или более индивидов, и этот факт дает нам возможность классифицировать сложные диалогические единства с точки зрения характера участия коммуникантов в раскрытии темы диалогического единства.
Сложное диалогическое единство в этом плане до сих пор подробно не исследовалось.
И.Аксенов сделал попытку классификации реплик драмы в зависимости от характера передаваемой ими информации или, точнее, от характера участия в развитии темы диалога /Аксенов, 1934: 21-29/. Однако критерии разбиения реплик на определенные группы были разработаны автором недостаточно четко, а сама классификация носила скорее литературоведческий, чем лингвистический характер.
В некоторых работах по диалогу отмечается, что реплики могут быть неоднородными по их тематической значимости /см.: Винокур Т.Г., 1955; Седов, 1961/, однако авторы рассматривают реплики изолированно, вне диалогического единства, что не позволило более четко увидеть их разноплановость с точки зрения вклада в формирование семантико-тематической структуры единства.
Ряд ценных наблюдений над особенностями диалогических единств, отличающихся степенью активности того или другого говорящего, был сделан Г.А.Пеньковой /1972а; 19726/ на материале современного французского языка.
Р.Поснер / Posner, 1972/ выделяет односторонний диалог, активный диалог, реактивный диалог и прямой диалог на основе типа комментирования в последующей реплике . Автор понимает диалог в широком смысле этого термина как речь, направленную на восприятие реципиентом, и поэтому к одностороннему диалогу относит такие виды речи, как проповедь, лекция и т.д. Однако, по справедливому замечанию Г.Хельбига, признак предназначенности для восприятия партнером не может способствовать идентификации монологического текста и диалога, так как любой текст в конечном итоге предназначен для чьего-то восприятия /см.: Helbig, 1975:67/.
Итак, анализ семантической структуры диалога показывает, что говорящие могут вносить различный вклад в развитие темы диалогического единства. Понимание диалогического единства как лингвистической единицы, обладающей семантической /тематической цельностью и семантико-синтаксической связностью приводит нас к необходимости изучения, во-первых, средств формирования такой цельности и связности и, во-вторых, определения вклада высказываний разных коммуникантов в развитие темы данного единства.
По принципу того, какой вклад в развитие темы и установление семантической связности единства вносят компоненты, принадлежащие разным участникам диалога, мы разделяем все сложные диалогические единства на три большие группы:
I. Сложное диалогическое единство, оба /все/ коммуниканты которого активно участвуют в раскрытии теш единства:
Kate. What about McCabe?
Anna. Do you really want to see anyone?
Kate. I don"t think I like McCabe.
Kate. He"s strange. He says some very strange things to me.
Anna. What things?
Kate. Oh, all sorts of funny things.
Anna. I"ve never liked him. (Drama, p. 37*1)
2. Сложное диалогическое единство, тема которого развивается в компонентах лишь одного коммуниканта:
Arthur. I remember working here with you.
Arthur. Stooking . Harvesting . Days of yore.
Jenny. Yes. (Farm, p. 48)
3. Квазидиалог - полное несоответствие тематических планов коммуникантов:
Sophie. Why"won"t he let me go?
Toby. Whisky? Have a whisky.
Sophie. It"s just as awful for him.
Toby. Do have a whisky.
Sophie. But he can"t let me go.
Toby. I"m going to have one.
Sophie. And I can"t get away - can"t get away anywhere.
No refuge. No peace.
Toby. Come and watch the children.
Sophie.There may be a way to escape, but I can"t see it.
Toby. Are you all right?
Sophie. I can"t see anything. (Dance, p. 32)
Определенный интерес вызывает сложное диалогическое единство второго типа - сложное диалогическое единство с односторонней организацией.
Тема приведенного одностороннего единства working развивается только в репликах Артура. Основной номенклатурный дескриптор, представленный вариантами working, stooking, harvesting , содержится в компонентах единства, принадлежащих только одному коммуниканту . Высказывания Дженни не участвуют в тематическом развертывании диалогического единства. Однако они включаются в общую семантику сложного диалогического единства. Второй и четвертый компоненты единства имеют ретроспективную коммуникативную направленность и выражают отношение слушающего к полученной информации.
Тема диалогического единства с односторонней организацией всегда будет развиваться только в компонентах первого коммуниканта, поскольку нерелевантные для тематического развертывания единства высказывания не могут выступать в качестве зачинных . Они могут быть только последующими.
Речевая деятельность второго коммуниканта может выполнять различные функции: сигнализация наличия контакта, выражение согласия/несогласия, удивления, гнева, боли и т.д., переспрос с различными целями, выражение субъективной оценки услышанного, побуждение к продолжению разговора, изменение коммуникативной перспективы диалога и т.д. Все эти функции носят нетематический характер, т.е. такие высказывания практически не участвуют в развитии темы в смысле сообщения новой интеллектуальной информации.
Если мы в целях исследования изолируем компоненты одностороннего диалогического единства, принадлежащие одному коммуниканту, в той последовательности, в какой они даны в единстве, то мы увидим, что одна группа компонентов составит связное монологическое высказывание, в котором происходит развитие темы единства. Другая же группа компонентов такого единства не образует. Это будет лишь набор единиц, необходимых для образования структуры сложного диалогического единства с односторонней организацией, практически не участвующих в тематическом развертывании единства.
Тем не менее было бы неверным утверждать, что одностороннее диалогическое единство ничем не отличается от монологического высказывания, за исключением дистантного расположения его частей. Все компоненты входят в семантическую структуру единства, хотя и в разной степени участвуют в развитии его темы.
Таким образом, анализ сложного диалогического единства с точки зрения вклада коммуникантов в формирование и развитие его тематической цельности позволяет выделить односторонний диалог как специальный вид диалогического текста, тема которого развивается в компонентах лишь одного говорящего. Мы называем такой вид текста сложным диалогическим единством с односторонней организацией.
Предметом данного диссертационного исследования является сложное диалогическое единство с односторонней организацией в современном английском языке. Актуальность выбранной темы вытекает из того, что, несмотря на довольно обширную литературу по теории диалога /обзор работ советских лингвистов по вопросам изучения диалога см. в кн.: Валюсинекая, 1979/, сложное диалогическое единство с односторонней организацией изучено еще далеко не достаточно. Оно фактически остается до сих пор не определенным ни со стороны структуры /количество компонентов, формы их связи и т.д./, ни со стороны семантики /характер семантических отношений между компонентами, содержательно-тематическая цельность или разобщенность всего единства/. Исследование связности в рамках сложного диалогического единства проводится с позиций теории парадигматического синтаксиса, разработанной в трудах М.Я. Елоха.
Цель исследования состоит в том, чтобы раскрыть определенные закономерности отражения в языковых формах семантики сложного диалогического единства с односторонней организацией, которая обусловлена тематической цельностью и семантико синтаксической связностью входящих в него компонентов.
Достижение поставленной цели вызвало необходимость решения следующих конкретных задач:
I/ Установить особенности структуры компонентов односторонних единств;
2/ исследовать характерные особенности различных композиционно-речевых форм сложных диалогических единств с односторонней организацией;
3/ выявить средства связи компонентов односторонних диалогических единств.
Научная новизна работы заключается в том, что на материале современного английского языка впервые показывается возможность выделения ряда композиционно-речевых форм одностороннего диалога как коммуникативно-смысловых типов текста. Изучение связности в единствах показало, что сложному диалогическому единству с односторонней организацией свойственно наличие связности как между контактно, так и дистантно расположенными компонентами. Дистантные связи охватывают только тематические компоненты. В ходе исследования выявлено, что контактные связи носят встречный характер, а дистантные - присоединительный. Вскрытие встречных и присоединительных межкомпонентных связей в семантико-син-таксической структуре единства позволило прийти к заключению о том, что сложное диалогическое единство с односторонней органы- 1 зацией является переходным типом текста от диалога к монологу.
Теоретическое значение представленной работы определяется применением теории парадигматического синтаксиса для уточнения положения диалогического единства в иерархии значимых единиц языка как системы. Такой подход позволил провести последовательный анализ категорий семантико-синтаксической связности и тематической цельности сложного диалогического единства с односторонней организацией.
Практическое значение диссертации заключается в том, что решение теоретических вопросов, связанных с изучением сложных диалогических единств, имеет широкий выход в практику преподавания иностранного языка в средней и высшей школе. Материалы и выводы исследования могут быть использованы в преподавании курсов теоретической и практической грамматики , стилистики английского языка, а также при чтении спецкурсов по теории и интерпретации текста, при написании курсовых и дипломных студенческих работ.
Материалом исследования послужили пьесы современных британских и американских авторов общим объемом около 18 тыс. страниц. Из текстового материала методом сплошной выборки выписано и проанализировано 1100 примеров сложных диалогических единств с односторонней организацией.
В диссертации используется комплексная методика исследования, включающая контекстуальный , дескрипторный и трансформационный анализ.
Работа прошла апробацию на научной конференции молодых научных работников "Лингвистический статус разговорной речи и методика ее преподавания" в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков имени М.Тореза 17 мая 1984 года. Материалы диссертации используются в курсе лекций по теоретической грамматике английского языка и спецкурсе по лингвистике текста на факультете английского языка Московского государственного педагогического института имени В.И.Ленина.
1. Сложное диалогическое единство с односторонней организацией. - Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР, № 16684. Новая советская литература по общественным наукам. Языкознание , М., 1984, № 10. - 56 с.
2. Сложное диалогическое единство. - В кн.: функциональные аспекты слова и предложения. - М.: МГШ им. В.И.Ленина, 1985.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и списка использованных литературных источников.
Заключение диссертации по теме "Германские языки", Поляков, Сергей Михайлович
144 -ВЫВОДЫ
1. Анализ межкомпонентных связей в сложном диалогическом единстве с односторонней организацией показал, что они разбиваются, в первую очередь, на две большие рубрики: контактные и дистантные . Первая группа представлена встречными связями, а вторая - присоединительными .
2. Контактные межкомпонентные связи подразделяются нами на коррелятивные и интродуктивные , последние считаются разновидностью конъюнкционных связей.
Из всех разновидностей коррелятивных контактных связей наибольшее распространение в одностороннем диалоге получают функциональная, рекуррентная, редукционная и апеллятивная связи. Субституционная и репрезентативная связь ограниченно распространены в односторонних единствах как средства формирования контактной связности.
3. Самым распространенным видом контактной связи в единствах исследуемого типа является функционально-коррелятивная. Эта связь основывается на принципе коммуникативной недостаточности последующего высказывания , в силу чего оно может выступать только как реагирующее. Это слова-предложения Tes, No; междометные высказывания; модальные слова-предложения и ответные реакции для стандартных ситуаций общения. Все вышеперечисленные высказывания отличаются очень высокой степенью синсемантичности .
4. Рекуррентная связь, основанная на лексико-синтаксичес-ком параллелизме, редукционная и апеллятивная связи отражают основные тенденции диалогической речи: одновременное участие в речевом акте двух или более говорящих, стремление к экономии языковых средств и направленность речи на собеседника .
5. Собственно конъюнкционная /союзная/ связь не употребляется для объединения контактно расположенных компонентов односторонних единств. Она выступает здесь в своей диалогической разновидности - в виде сочленения элементов текста посредством интродукторов . Б качестве интродукторов функционируют вводящие частицы междометного характера Oh, Ah, Why и др.; вводящая частица Well; устойчивые словосочетания All right; As a matter of fact и др. 6. Дистантные межкомпонентные связи устанавливаются между тематическими компонентами сложных диалогических единств с односторонней организацией. Дистантные связи обнаруживают ряд отличий от контактных. Во-первых, дистантные связи могут быть не только ретроспективными, но и проспективными и взаимными /ретроспективно-проспективными/. Во-вторых, конъюнкционные связи представлены как союзным, так и интродуктивным типом. В-третьих, наблюдается перераспределение по значимости и номенклатуре отдельных видов коррелятивной связи.
7. Дистантная коррелятивная связь представлена субституци-онной, репрезентативной, субституционно-репрезентативной, рекуррентной и ассоциативной разновидностями. Все они достаточно широко распространены в одностороннем диалоге. В отличие от контактных связей, дистантным не свойственно употребление функциональной и апеллятивной связи, в то время как субституция и репрезентация получают здесь широкое распространение.
8. Различия между контактной /встречной/ и дистантной /присоединительной/ связями в одностороннем диалоге обусловлены кардинальными различиями семантики тематических и нетематических компонентов. Если в первом случае объединяемые компоненты резко отличаются по своему содержанию - тематические содержат
146 всю интеллектуальную информацию по теме, а нетематические представляют собой всевозможные модальные и коммуникативные реакции на сказанное - то во втором сочленению подлежат семантически однородные компоненты.
9. Как известно, встречные связи характерны для диалогической речи, а присоединительные - для монологической. Сложному диалогическому единству с односторонней организацией свойственны как те, так и другие. Это позволяет нам сделать вывод, что односторонний диалог занимает промежуточное место между собственно диалогом и монологом. Переходный характер одностороннего диалога закреплен в системе надфразовых связей его составляющих.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предметом исследования данной диссертационной работы послужило сложное диалогическое единство с односторонней организацией. Изучение одностороннего диалога проводится с позиций теории парадигматического синтаксиса, разработанной в трудах М.Я.Елоха. Согласно этой теории языковая семантика надпредло-женческих связей в тексте трактуется как синтаксическая , поскольку при отображении всевозможных отношений между ситуациями выражается некоторая типическая, постоянно повторяющаяся семантика , передаваемая особыми, специализированными языковыми формами.
Диалектическое единство содержания и формы предполагает ведущую роль содержания по отношению к форме. Поэтому при определении сложного диалогического единства в качестве основного критерия мы используем семантико-тематическую цельность единства, а исследование проводим от установления общности темы к выявлению грамматических средств выражения этой общности.
Сложное диалогическое единство определяется нами как структурно-семантическая единица диалогического текста, состоящая из трех и более компонентов /встречных высказываний разных участников диалога/, примыкающих к единому смысловому центру и взаимообусловленных семантически, структурно и коммуникативно.
Смысловой центр сложного диалогического единства обнаруживается с помощью дескрипторного анализа его компонентов. Дескрипторы, входящие в смысловой центр сложного диалогического единства, называются нами основными номенклатурными дескрипто-раш. Смена основного номенклатурного дескриптора сигнализирует границу сложного диалогического единства.
Дескрипторный анализ диалогических реплик , состоящих более чем из одного предложения, показал, что если реплика состоит из двух предложений, то одно предложение может относиться к предыдущему диалогическому единству, а второе - к последующему. Если резшика состоит из двух сверхфразовых единств, то граница между ниш будет и границей сложного диалогического единства. Часть монологической реплики в ряде случаев может входить в сложное диалогическое единство и либо начинать, либо завершать его.
Итак, часто деление на диалогические единства не совпадает с делением диалога на реплики. В этой связи возникает необходимость уточнения понятий "реплика" и "компонент диалогического единства". Мы приходим к выводу, что диалог состоит из следующих единиц:
I/ самостоятельные, автосемантические реплики /монологические реплики или их части, не входящие в диалогические единства/"";
2/ компоненты диалогических единств: а/ совпадающие с репликой ; б/ меньше реплики.
В условиях устной или письменной коммуникации все высказывания подразделяются нами на относительно автосемантические /монологические/ и синсемантические - компоненты диалогических единств. В данной работе мы придерживаемся терминов "сложное диалогическое единство" и "компонент диалогического единства". Отношение диалогического единства к его компоненту, составляющему сверхфразовое единство, есть отношение целого к его части.
Семантическая структура диалога является результатом рече-творчества двух или более индивидов, и этот факт дает нам возможность классифицировать сложные диалогические единства с точки зрения характера участия коммуникантов в раскрытии темы диалогического единства.
По принципу того, какой вклад в развитие темы и установление} семантической связности единства вносят компоненты, принадлежащие разным участникам диалога, мы разделяем все сложные диалогические единства на три большие группы: сложное диалогическое единство, оба /все/ коммуниканты которого активно участвуют в раскрытии темы единства; сложное диалогическое единство, тема которого развивается в компонентах лишь одного коммуниканта ; квазидиалог - полное несоответствие тематических планов коммуникантов.
Специальному исследованию в данной работе подверглось единство второго типа - сложное диалогическое единство с односторонней организацией.
Компоненты сложных диалогических единств с односторонней организацией распадаются на две группы с ярко выраженными отличительными признаками. К первой группе относятся тематические компоненты, в которых происходит развитие темы единства; ко второй - нетематические компоненты реагирующего характера. Различия: компонентов этих двух групп в плане содержания обусловливают значительные расхождения в плане выражения - в их грамматической структуре.
Так, компоненты первой группы имеют относительно простой грамматический состав по сравнению с монологической речью - не более пяти конструкций в 98,5$ случаев, тем не менее для диалогической речи входящие в них конструкции обладают сравнительно большим объемом в плане количества составляющих и их протяженности. Это обусловлено их тематическим характером.
Вторая группа, компонентов представлена высказываниями peaгирующего характера. Они практически не участвуют в развитии темы единства. Особенности передаваемой содержательной информации накладывают свой отпечаток на структуру этих компонентов: 89$ примеров приходится на компоненты, состоящие из одной конструкции, 9,5$ - из двух и 1,5$ - из трех конструкций. Более чем трехконструкционные компоненты наш не зарегистрированы.
Выделение сложного диалогического единства создает предпосылки для изучения композиции и семантики отрезков тематической связности. Части текста, характеризующиеся семантико-тематичес-кой цельностью и построенные по различным линиям синтаксической связности, в стилистике называются композиционно-речевыми формами. На основе анализа языкового материала мы выделили шесть чистых композиционно-речевых форм одностороннего диалога и одну со смешанными коммуникативными установками входящих в нее ком-шшентов.
Четыре композиционно-речевые формы одностороннего диалога строятся на базе повествовательного предложения. Это диалог-повествование, диалог-описание, диалог-объяснение и диалог-извещение.
Диалог-повествование определяется нами как композиционно-речевая форма диалогического текста, переход от одного тематического элемента которого к другому определяется временными признаками. Глагольные характеристики играют в этом виде текста первостепенную роль, поэтому в диалоге-повествовании преобладают предложения глагольного типа.
Ремовыделяющая функция повествования проявляется в том, что предикативный элемент /часто сам глагол-сказуемое/ с необходимостью включается в коммуникативно-смысловой центр высказывания.
Диалог-описание можно определить как сложное диалогическое единство с односторонней организацией, направленное на более или менее полное изображение разных сторон одного предмета, явления, процесса. Описание выявляет квалитативные стороны референта.
Ремовыделяющая функция описания как композиционно-речевой формы проявляется в том, что в коммуникативно-смысловой центр высказывания в большинстве случаев включается предикатив , оставляя глагольный элемент за рамками ремы . Для диалога-описания характерен высокий процент предложений с составным именным сказуемым.
Диалог-объяснение мы определяем как особый вид диалогического текста, каждый тематический компонент которого либо вытекает из предыдущего, либо вызывает последующий, устанавливая причину, смысл, закономерность высказываний всего единства. Композиционные элементы диалога-объяснения находятся в причинно-следственных отношениях между собой.
Диалог-извещение определяется нами как композиционно-речевая форма диалогического текста, целью которого является сообщение о каком-либо событии, явлении или процессе, не останавливаясь подробно на его характеристиках. Это одно высказывание , расчлененное репликой партнера или представленное двумя трансформами одного и того же предложения.
Диалог-побуждение строится на базе побудительных конструкций. К ним относятся чисто повелительное предложение и переходные! типы: повествовательно-побудительное и вопросительно-побудительное.
В семантическом поле "побуждение" действует тройная градуальная оппозиция: просьба - инструкция - приказ, члены которой противопоставляются по признаку степени императивности высказывания. Наименьшая степень императивности содержится в просьбе и наивысшая - в приказе. Соответственно такому членению выделяются диалог-просьба, диалог-инструкция и диалог-приказ.
Мы выделяем особый тип сложного диалогического единства с односторонней организацией, включающий в зачин вопросительную конструкцию, коммуникативное задание которой либо не реализуется вообще, либо реализуется в тематических компонентах - говорящий отвечает сам себе. Степень семантической завершенности такого единства зависит от характера надпредложенческих связей между его компонентами.
В реальных условиях живого общения часто происходит соединение выделенных нами композиционно-речевых форм диалога в рамках одного единства. Такие единства называются нами смешанными. Семантическая структура диалога этого типа отражает естественную динамику человеческой мысли и восприятия реальной действительности во всем ее многообразии.
Анализ межкомпонентных связей в сложном диалогическом единстве с односторонней организацией, проведенный с позиций теории парадигматического синтаксиса , показал, что они разбиваются, в первую очередь, на две большие рубрики: контактные и дистантные. Первая группа представлена встречными связями, а вторая - присоединительными.
Контактные связи действуют между семантически разнородными компонентами - тематическими и нетематическими - что и обусловило их характерные особенности. Во-первых, контактные связи имеют только ретроспективную ориентацию; во-вторых, наибольшее распространение получают здесь коррелятивные связи, а именно функциональная, рекуррентная, редукционная и апеллятивная. Субститудия и репрезентация распространены довольно ограниченно, в отличие от монологических последовательностей. Конъюнкционная связь в чистом виде здесь не встречается, она выступает в своей диалогической разновидности - как интродуктивная .
Самым распространенным видом контактной связи является функционально-коррелятивная, основанная на принципе коммуникативной недостаточности последующего высказывания.
Дистантные связи устанавливаются между тематическими компонентами односторонних единств. Б отличие от контактных связей, они могут быть не только ретроспективными, но и проспективными и взаимными /ретроспективно-проспективными/.
Дистантная коррелятивная связь представлена субституцион-ной, репрезентативной, субституционно-репрезентативной, рекуррентной и ассоциативной разновидностями. Субституция и репрезентация получают здесь широкое распространение.
Конъюнкционная дистантная связь выступает как в чистом виде, так и в виде интродуктивной связи.
Различия между контактной /встречной/ и дистантной /присоединительной / связями в одностороннем диалоге обусловлены кардинальными различиями семантики тематических и нетематических компонентов. Если в первом случае объединяемые компоненты резко отличаются по своему содержанию - тематические содержат всю интеллектуальную информацию по теме, а нетематические представляют собой всевозможные модальные и коммуникативные реакции на сказанное - то во втором сочленению подлежат семантически однородные компоненты.
Как известно, встречные связи характерны для диалогической речи, а присоединительные - для монологической. Сложному диало
154 гическому единству с односторонней организацией в равной мере свойственны как те, так и другие. Это позволяет нам сделать вывод, что односторонний диалог занимает промежуточное место мезвду собственно диалогом и монологом. Переходный характер одностороннего диалога закреплен в системе надфразовых связей его составляющих.
Таким образом, анализ сложного диалогического единства с односторонней организацией с позиций теории парадигматического синтаксиса позволил исследовать семантико-синтаксическую связность в единстве как отражение его внутренней организации, определяемой тематической цельностью.
Список литературы диссертационного исследования кандидат филологических наук Поляков, Сергей Михайлович, 1985 год
1. К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения, изд. 2: в 30 т. - М.: Госполитиздат, 1955.
2. Абрамов Б.А. Текст как закрытая система языковых средств. В кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГПИИЯ им. М.Тореза, 1974, ч. I, с. 3-4.
3. Абрамович А.В. Особенности структуры описания и его композиционная роль в жанрах публицистики. В кн.: Вопросы стилистики . М.: Изд-во МГУ, 1966, с. 202 - 214.
4. Аксенов И. Язык советской драматургии. Театр и драматургия, 1934, № 6, с. 21-29.
5. Алимурадов А.Р. Семантико-композиционное строение современного английского диалога как коммуникативной формы текста: Дисс. . канд. филол . наук. Пятигорск, 1981. - 201 л.
6. Антипова Е.Я. Глагольное замещение в современном английском языке. Вестник ЛГУ, 1962, № 2, вып. I, с. 137 - 149.
7. Аринштейн В.М. 0 структурной обусловленности сверхфра-зоеых единств. В кн.: Проблемы общего языкознания и английской филологии. Ученые зап. Калинин: КГПИ им. М.И.Калинина, 1969, т. 64, вып. I, ч. I, с. 103 - 142.
8. Арнаутова А.Г. Сложные синтаксические единства. В кн.: Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии. Калинин: Изд-во Калининского гос. ун-та, 1974,с. 171 186.
9. Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения. Вопросы языкознания, 1982, № 4, с. 83 - 91.
10. Арутюнова Н.Д. Некоторые типы диалогических реакций и "почему" реплики в русском языке. Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1970, № 3, с. 44 - 58.
11. Арутюнова Н.Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике .- Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1973, т. XXXII, вып. I, с. 84 90.
12. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Автореф. дисс. . доктора филол. наук. М., 1975. - 45 с.
13. Афанасьев П.А. Выражение подтверждения и отрицания в ответных репликах в современном английском языке: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1966. - 30 с.
14. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966. - 608 с.
15. Ахманова О.С., Никитина С.Е. 0 некоторых лингвистических вопросах составления дескрипторных языков. Вопросы языкознания, 1965, № 6, с. Ill - 115.
16. Бакарева А.П. К вопросу о структуре предложения как средстве связи между предложениями в сверхфразовом единстве.- 13 кн.: Вопросы грамматики германских языков. Сборник научных трудов. М.: МГПИИЯ им. М.Тореза, 1980, вып. 161, с. 181 192.
17. Бакун В.М. Вычленение коммуникативного центра в диалогическом единстве. В кн.: Вопросы синтаксиса русского языка. Ученые записки. Рязань: Рязанский гос. пед. ин-т, 1975, вып. 2, с. 60 - 68. - а.
18. Бакун В.М. "Привязка" валентности к вопросу изучения структурного взаимодействия реплик диалогического единства.-В кн.: Вопросы синтаксиса русского языка. Ученые записки. Рязань: Рязанский гос. пед. ин-т, 1975, вып. 3, с. 35 44. - б.
19. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. М.: Высшая школа, 1966. - 199 с.
20. Бархударов Л. С. Текст как единица языка и единица перевода. В кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГШИЯ им. М.Тореза, 1974, ч. I, с. 40 - 41.
21. Бархударов Л.С. Структура предложения и структура текста. В кн.: Лингвостилистические проблемы текста. Сборник научных трудов. М.: МГШИЯ им. М.Тореза, 1980, вып. 158, с. 51-58.
22. Баталова Т.М. Некоторые семантические аспекты связности текста. В кн.: Сборник научных трудов. М.: МГШИЯ им. М. Тореза, 1977, вып. 116, с. 3 - 26.
23. Беркаш Г.В. Логико-грамматическая природа вопроса и ее реализация в вопросно-ответных структурах английской диалогической речи: Дисс. . канд. филол. наук. М., 1969. - 333 л.
24. Беркнер С. С. 0 взаимодействии реплик в английской диалогической речи. В кн.: Английская филология. Ученые записки. Ульяновск: Ульяновский гос. пед. ин-т, 1959, т.15, вып.2, с.3-40.
25. Беркнер С.С. Некоторые явления взаимодействия реплик английской диалогической речи: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., I960. - 19 с.
26. Беркнер С.С. Проблемы развития разговорного английского языка Х1У XX вв. - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978. - 230 с.
27. Беркнер С. С. К вопросу о трансформации устно-разговорного текста в письменно-разговорный. В кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГПИИЯ им. М.Тореза, 1974, ч. I, с. 45 - 50.
28. Блох М.Я. Проблема синтаксической связи самостоятельных предложений. В кн.: Проблемы синтаксиса, лексики и методики преподавания английского языка. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону: Рост. н/Д гос. ун-т, 1966, с. 7 - 8.
29. Блох М.Я. Вопросы классификации синтаксических связей в последовательностях предложений. В кн.: Вопросы германского языкознания и методики преподавания иностранных языков. - Иркутск: Иркутский ГПИИЯ , 1968, т. I, с. 66 - 73.
30. Блох М.Я. Дихотомия "язык речь" и теория трансформационной грамматики. - В кн.: Вопросы грамматики английского языка. Ученые записки. М.: МГПИ игл. В.И.Ленина, 1969, № 367,с. 17 37. - а.
31. Блох М.Я. К проблеме присоединительных связей предло-жевяй. В кн.: Вопросы грамматики английского языка. Ученые записки. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1969, В 367, с. 38 - 55. - б.
32. Блох М.Я. К проблеме синтаксиса монологической речи. В кн.: Вопросы лингвистики . Ученые записки. Томск:Томский гос. пед. ин-т, 1969, вып. I, № 27/а/, с. 27 - 34. - в.-159
33. Блох М.Я. К проблеме синтаксической парадигматики . В кн.: Проблемы синтаксиса английского языка. Ученые записки, М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1970, № 422, с. 20 - 42. - а.
34. Блох М.Я. Конечно-автоматная грамматика в теории синтаксической структуры языка. В кн.: Проблемы синтаксиса английского языка. Ученые записки. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1970, № 422, с. 43 - 74. - б.
35. Блох М.Я. Факультативные позиции и нулевые формы в парадигматическом синтаксисе. В кн.: Проблемы синтаксиса английского языка. Ученые записки. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1970,422, с. 75 105. - в.
36. Блох М.Я. Ядерный уровень в парадигматическом синтаксисе . В кн.: Синтаксические исследования по английскому языку. Ученые записки. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1971, № 416, вып. I,с. 41 54, - а.
37. Блох М.Я. Об информативной и семантической ценности язековых элементов. В кн.: Синтаксические исследования по английскому языку. Ученые записки. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 197I, Jfe 473, вып. 2, с. 3 - 27. - б.
39. Блох М.Я. Надфразовый синтаксис и синтаксическая парадигматика. В кн.: Проблемы грамматики и стилистики английского языка. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1973, с. 195 - 225. - б.
40. Блох М.Я. Проблемы парадигматического синтаксиса: Дисс. . доктора филол. наук. М., 1976. - 444 л. - а.
41. Блох М.Я. Вопросы изучения грамматического строя языка. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1976. - 107 с. - б.
42. Блох М.Я. Коммуникативные типы предложения в аспекте актуального членения . Иностранные языки в школе, 1976, № 5, с. 14 - 23. - в.
43. Блох М.Я. Типы коммуникации и актуальное членение предложения в разговорной речи. Б кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький: ГГШ им. М. Горького, 1976, вып. 7, ч. I, с. 55-62. - г.
44. Блох М.Я. Предикативные функции предложения и понятие синтаксической парадигмы. Б кн.: Седьмая научная конференция по вопросам германского языкознания. М.: Институт языкознания АН СССР , 1977, с. 20 - 24.
45. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. Ы.: Высшая школа, 1983.-383 с. - а.
46. Блох М.Я. Коммуникативная синтаксическая парадигматика и логический аспект высказывания . В кн.: Структура и функция синтаксических единиц в германских языках. Горький: ГГПИ им. М.Горького, 1983, с. 3 - 12. - б.
47. Борисова М,Б. 0 типах диалога в пьесе Горького "Враги". -В кн.: Очерки по лексикологии , фразеологии, стилистике. Ученые записки. Л.: ЛГУ им. А.А.Жданова, 1956, 198, серия филологических наук, вып. 24, с. 96 124.
48. Брандес М.П. Синтаксическая семантика текста. В кн.: Вопросы романо-германской филологии . Синтаксическая семантика.
49. Сборник научных трудов. М.: МГШИЯ им. М.Тореза, 1977, вып.112, с. 145 153.
50. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. М.: Высшая школа, 1983. - 271 с.
51. Брчакова Д. О связности в устных коммуникатах . В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979, с. 248 - 261.
52. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Диалогические функции некоторых типов вопросительных предложений. Известия АН СССР, серия литературы и языка. М., 1982, т. 41, № 4, с. 314 - 326.
53. Вайс М.Я. Синтаксические структуры диалогической речи немецкого языка и их стилистическое использование в современной немецкой литературе: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. -I., 1964. 24 с.
54. Валимова Г.В. Сложное предложение и сочетание предложений. В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л.: Наука, 1975, с. 183 - 190.
55. Валюсинская З.В. Вопросы изучения диалога в работах советских лингвистов . В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979, с. 299 - 313.
56. Вейхман Г.А. К вопросу о синтаксических единствах.- Вопросы языкознания, 1961, № 2, с. 97 105.
57. Вейхман Г.А. Синтаксические единства в современном английском языке: Дисс. . канд. филал. наук. М., 1963. - 463л.
58. Вейхман Г.А. Структурные модели разговорного английского языка. М.: Международные отношения, 1969. - 223 с.
59. Вейхман Г.А. Высшие синтаксические единицы /на материале современного английского языка/: Дисс. . доктора, филал. назтс. М., 1980. - 430 л.
60. Виноградов В.В. 0 языке художественной литературы.- М.: Гослитиздат, 1959. 652 с.
61. Виноградов В.В. Синтаксическая концепция академика Л. А. Булаховского . Русский язык в школе, 1965, № 4, с. 79 - 83.
62. Виноградов В.В. Русский язык. М.: Высшая школа, 1972.- 613 с.
63. Винокур Г.И. "Горе от утла" как памятник русской художественной речи. В кн.: Труды кафедры русского языка. Ученые записки. М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 1948, вып. 128, с. 35-69.
64. Винокур Т.Г. 0 некоторых синтаксических особенностях, диалогической речи в современном русском языке: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1953. - 16 с.
65. Винокур Т.Г. 0 некоторых синтаксических особенностях диалогической речи. В кн.: Исследования по грамматике русского литературного языка. М.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 342 - 355.
66. Гаврилова З.Ф. Принципы строения монологических высказываний и их структурные типы в английской разговорной речи.- В кн.: Ученые записки 1ТПИШ им. Н.А.Добролюбова. Горький, 1967, вып. 34, с. 322 346.
67. Гаврилова З.Ф. Некоторые особенности монологических высказываний в диалогической речи /на материале английского языка/: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. Л., 1970. -23с.
68. Гак В.Г. Русский язык в зеркале французского. Структура диалогической речи /часть I/. Русский язык за рубежом.
69. М.:: йзд-во МГУ, 1970, J6 3, с. 75 80.
70. Гак В.Г. Русский язык в зеркале французского. Структура диалогической речи /часть 2/. Ясский язык за рубежом.
71. М.: Изд-во МГУ, 1971, № 2, с. 63 69.
72. Гак В.Г. О семантической организации текста. В кн.: Лигпгаистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГШИЯ им. М.Тореза, 1974, ч. I, с. 61 - 66.
73. Гак В.Г. 0 семантической организации повествовательного текста. В кн.: Лингвистика текста. Сборник научных трудов. М.: МИШИН им. М.Тореза, 1976, IS 103, с. 5 - 14.
74. Галкина-Федорук Е.Н. О некоторых особенностях языка ранних драматических произведений Горького. Вестник МГУ, серия: общественных наук, 1953, № I, вып. I, с. 105 - 120.
75. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. - 139 с.
76. Гельгардт P.P. Рассуждение о диалогах и монологах. /К общей теории высказывания./ В кн.: Сборник докладов и сообщений лингвистического общества. Калинин: Изд-во Калининского гос. ун-та, 1971, II, вып. I, с. 28 - 153.
77. Гиндин С.И. Внутренняя организация текста. Элементы теории и семантический анализ: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1972. - 22 с.
78. Глаголев Н.В. Языковая экономия и языковая избыточность в синтаксисе разговорной речи: Дисс. . канд. филол. наук. М., 1967. - 324 л.
79. Глаголев Н.В. Об основных видах взаимосвязи предложений диалога. Иностранные языки в школе, 1969, № 2, с. 18-26.
80. Горшкова И.М. Дискуссионные вопросы организации текста в чехословацкой лингвистике. В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979, с. 341 - 358.
81. Грамматика современного русского литературного языка.- М.: Наука, 1970. 767 с.
82. Гузеева К.А. Некоторые случаи взаимодействия реплик английской диалогической речи. В кн.: Грамматические исследования. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1975, ч. I, с. 64 - 75.
83. Гузеева К.А. Роль замещения в организации диалогически?: единств. В кн.: Теория и методы исследования текста. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1977, вып. I, с. 3 - II.
84. Гулнга Е.В. Автосемантия и синсемантия как признаки ■ смысловой структуры слова. Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1967, № 2, с. 62 - 72.
85. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4х т. М.: Гос. изд-во иностр. и национальных словарей , 1956.
86. Девкин В.Д. Особенности немецкой разговорной речи.- М.: Международные отношения, 1965. 318 с.
87. Девкин В.Д. Предложения-эхо в немецкой диалогической речи. В кн.: Вопросы немецкой филологии. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1975, с. 153 - 163.
88. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь: синтаксис и лексика . М.: Международные отношения, 1979. - 254 с.
89. Девкин В.Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской. М.: Высшая школа, 1981, - 160 с.
90. Дмитриева В.Т. Некоторые синтаксические особенности немецкой диалогической речи. В кн.: Вопросы синтаксиса и стилистики немецкого языка. Ученые записки. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1963, т. 255, с. 107 - 112.
91. Дудецкий А.Я. Некоторые особенности воссоздающего воображения. Вопросы психологии, 1958, № 3, с. 61 - 73.
92. Евгенъева А.П. ред. Словарь русского языка: В 4х т.- М.: Ясский язык, 1981.
93. Ежов В.Л. К классификации ответных реплик современной английской диалогической речи. Горький: ГГПИИЯ им. Н.А.Добролюбова, 1968, с. 289 291.
94. Ежов В.Л. Типы ответных реплик в современной английской диалогической речи. В кн.: 0 некоторых проблемах теории и методики преподавания германских языков. Ученые записки. Свердловск: Свердловский гос. пед. ин-т, 1969, т.94, с. 60 - 76.
95. Желонкина Н.П. Реагирующие реплики немецкой диалогической речи /реакции на сообщение и побуждение/: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1980. - 16 с.
96. Занько С.Ф. Основные вопросы лингвистической теории диалога: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. Казань, 1971.- 19 с.
97. Зельцер В.И. Изолированные части сложноподчиненного предложения в составе реплик диалогического единства вопросно-ответного типа. В кн.: Принципы и методы лексико-грамматичес-ких исследований. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1972, ч.2, с. 73-78.
98. Знаменская Т.А. Структурно-семантические особенности сложноподчиненного предложения в диалоге /на материале английского языка/: Дисс. . канд. филол. наук. Л., 1980. - 191 л.
99. Иванчикова Е.А. Лексический повтор как экспрессивный прием синтаксического распространения. В кн.: Мысли о современном русском языке. М.: Просвещение, 1969, с. 126 - 139.
100. Инфантова Г.Г. Очерки по синтаксису современной русской разговорной речи. Ростов-на-Дону: Рост. н/Д гос. пед. ин-т, 1973. 135 с.
101. Йотов Ц. Некоторые структурно-функциональные характеристики диалога /на материале современного русского языка/: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1977. - 25 с.
102. Кожевникова Н.А. Речевые разновидности повествования в русской прозе: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1973. - 27 с.
103. Конрад Н.И. 0 "языковом существовании". В кн.: Японский лингвистический сборник. М.: Изд-во восточной литературы, 1959, с. 5 - 16.
104. Копнин П.В. Природа суждения и формы выражения его в языке. В кн.: Мышление и язык. М.: Госполитиздат, 1957,с. 276 351.
105. Котляр Т.Р. 0 сложном синтаксическом целом в разговорной и книжно-монологической речи. В кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький: ГГПИИЯ им. Н.А.Добролюбова, 1968, с. 246 - 249.
106. НО. Крылова О.А. Понятие многоярусности актуального членения и некоторые синтаксические категории. Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1970, 5, с. 86-91.
107. Крючков С.Е. О присоединительных связях в современном русском языке. В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М.: Учпедгиз, 1950, с. 397 - 411.
108. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения. М.: Просвещение, 1969.- 189 с.
109. ИЗ. Кучер А.В. О структуре английской диалогической речи.- кн.: Вопросы романо-германского и общего языкознания. Минск: Минский гос. пед. ин-т ин. яз., 1973, с. 86 100.
110. Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М.: Наука, 1976. - 397 с.
111. Леонова-Елисеева Л.А. Рекуррентные предложения в современном английском литературном диалоге: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. Калинин, 1969. - 25 с.
112. Леонова Л.А. Реестр "готовых" предложений современного английского бытового диалога. Калинин: Изд-во Калининского гос. ун-та, 1972. - 142 с.
113. Леонова Л.А., Шубин Э.П. "Готовые" предложения в современном английском бытовом диалоге. Иностранные языки в школе, 1970, й 5, с. II - 21.
114. Леонтьев А.А. Признаки связности и цельности текста.- В кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГПЙШ игл. М.Тореза, 1974, ч. I, с. 168 Г72.
115. Леонтьев А.А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации. В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979, с. 18 - 36.
116. Лосева Л.М. Текст как единое целое высшего порядка и его составляющие /сложные синтаксические целые/. Русский язык в школе, 1973, 16 I, с. 61-67.
117. Лосева Л.М. 0 синтаксическом и семантическом аспектах исследования целых текстов. Б кн.: Лингвистика текста. Мат-лы научной конференции. М.: МГШШ им. М.Тореза, 1974, ч. I,с. 176 184.
118. Мальчевская Л.М. Некоторые языковые средства связи между предложениями: Автореф. дисс. . канд. филол. наук.- М., 1964. 28 с.
119. Маркина Л. С. Четырехчленные ДЕ / ДЕ 4 / в современном английском языке: Автореф. дисс. . канд. филол. наук.- Л., 1973. 16- с. - а.
120. Маркина Л. С. Конструктивный анализ четырехчленного диалогического единства /на материале современного английского языка/. Лекция. Л.: ЛГШ им. А.И.Герцена, 1973. - 39 с. - б.
121. Маслов Б.А. Проблема лингвистического анализа связного текста /надфразовый уровень/. Учебное пособие к спец. курсу.- Таллин: ТГПИ им. Э.Вильде, 1975. 104 с.
122. Мильчин А.Э. Методика и техника редактирования текста.- М.: Книга, 1972. 320 с.
123. Михайлов Л.М. 0 некоторых типах односоставных ответных предложений в немецкой диалогической речи. В кн.: Вопросы синтаксиса и лексикологии немецкого языка. Ученые записки. М.: МГШ им. В.И.Ленина, 1964, № 226, с. 115 - 126.
124. Михлина М.Л. Из наблюдений над синтаксисом диалогической речи: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. Л., 1955.-16с.
125. Мордвинов А.Б. Формирование темпоральной семантики в тексте рассуждения. В кн.: Синтаксис текста. М.: Наука, 1979,с. 214 225.
126. Мосейко А.Н. Способы выражения умозаключений в языке: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1955. - 15 с.
127. Москальская О.И. Грамматика текста. М.: Высшая школа, 1981. - 183 с.
128. Москальская О.И. Актуальные проблемы грамматики текста.- Иностранные языки в школе, 1982, № 2, с. 3-8.
129. Невижина З.В. Структурно-семантическая организация сверхфразовых единств в современном английском языке: Дисс. . канд. филол. наук. Киев, 1971. - 219 л.
130. Невижина З.В. Парцелляция и виды сверхфразовых единств.- В кн.: Исследования по романской и германской филологии. Киев: Вшца школа, 1975, с. 108 НО.
131. Нечаева О.А. функционально-смысловые типы речи /описание, повествование, рассуждение/. Улан-Удэ: бурятское книжное изд-во, 1974. - 260 с.
132. Ноздрина Л.А. Композиция и грамматические средства связности художественного текста: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1980. - 26 с.
133. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Ясский язык, 1981. - 816 с.
134. Парамонова И.П. Переспрос в немецкой разговорной речи.- В кн.: Структура простого предложения в современном немецком языке. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1972, с. 67 87.
135. Певзнер Б. Р. Информационно-поисковые системы и информационно-поисковые языки /лекция/. М.: МЦНТИ, 1976. - 49 с.
136. Пенькова Г.А. Двучленные и трехчленные сверхфразовые диалогические единства /СДЕ/. В кн.: Принципы и методы лек-сико- грамматических исследований. Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена,1972, ч. 2, с. 69 73. - а.
137. Пенькова Г.А. Диалогические единства в современном французском литературном языке: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. JI., 1972. - 22 с. - б.
138. Першикова В. А. Немотивированно-полно составные реплики в структуре диалогического единства: Дисс. . канд. филол. наук. Л., 1982. - 211 л.
139. Петина С.М. Текстообразущая функция парцелляции. В кн.: Проблемы синхронного и диахронного анализа германских языков. Ставрополь: Ставропольский гос. пед. ин-т, 1978, вып. 3, с. 62 - 72.
140. Петрашевская Ж.Е. Парцелляция простого предложения в современном английском языке: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1974. - 25 с.
141. Пименов А.В. Диалог как двухвекторная коммуникация.- В кн.: Труды ВИИЯ. Иностранные языки. М., 1969, № 5, с. 244 -255.
142. Пономарчук В.А. Типы диалогических единств, содержащих повтор . В кн.: Проблемы взаимодействия литературных направлений. Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т, 1975, вып. 3, с. 126 - 131.
143. Попов П.С. Суждение и предложение. В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М.: Учпедгиз, 1950, с. 5 - 35.
144. Поспелов Н.С. Сложное синтаксическое целое и особенности его структуры. В кн.: Доклады и сообщения института русского языка. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948, с. 43 - 68.
145. Почепцов О.Г. Пресуппозиция вопроса. В кн.: Новые тенденции в изучении грамматики романских и германских языков.
146. Киев: Вшца школа, 1981, с. 112 120.
147. Ратова Т.Е. О восклицательных предложениях: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. Калинин, 1973. - 27 с.
148. Реферовская Е.А. Сверхфразовое единство. В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л.: Наука, 1975, с. 194 - 199.152. русская разговорная речь. Под ред. Е.А.Земской. М.: Наука, 1973. - 485 с.
149. Святогор И.П. О некоторых особенностях синтаксиса диалогической речи в современном русском языке /диалогическое единство/. Калуга: Книжное изд-во, I960. - 39 с. - а.
150. Святогор И.П. Повторы как средство синтаксической связи реплик в современном русском языке. В кн.: Русский язык. Статьи и исследования. Ученые записки. М.: МГПИ им. В.И.Ленина, I960, т. 148, вып. 10, с. 257 - 281.
151. Святогор И.П. Типы диалогических реплик в современном русском языке: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. - М., 1967. 20 с.
152. Севбо И.П. Структура связного текста и автоматизация реферирования. М.: Наука, 1969. - 134 с.
153. Седов В.В. Некоторые особенности диалогической речи /на материале драматургии О.Бальзака/. В кн.: Вопросы теории языка. Ученые записки. Л.: ЛГУ им. А.А.Еданова, 1961, вып. 56, В 283, с. 129 - 139.
154. Серкова Н.И. Об одном методе исследования сверхфразового единства. В кн.: Мат-лы межвузовской научной конференции по вопросам романо-германского языкознания. Пятигорск: Пятигорский гос. пед. ин-т ин. яз., 1967, с. 139 - 141.
155. Серкова Н.И. Сверхфразовое единство как функционально-речевая единица: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1968. - 16 с.
156. Серкова Н.И. Сверхфразовое единство как семантико-син-таксическая проблема. В кн.: Ученые записки Хабаровского гос. пед. ин-та. Хабаровск, 1969, т. 19, с. 197 - 213.
157. Сильман Т.И. Структура абзаца и принципы его развертывания в художественном тексте. В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л.: Наука, 1975, с. 208 - 216.
158. Сиротинина О.Б. Русская разговорная речь и ее особенности. М.: Просвещение, 1974. - 144 с.
159. Скребнев Ю.М. Общелингвистические проблемы описания синтаксиса разговорной речи: Дисс. . доктора филол. наук.- Горький, 1971. 581 л.
161. Солганик Г.Я. Об одном типе связи между самостоятельными предложениями. Русский язык в школе, 1965, № 3, с.59-63.
162. Соловьева А.К. 0 некоторых общих вопросах диалога.- Вопросы языкознания, 1965, № 6, с. 103 ПО.
163. Сухомлинова Т.Р. К вопросу о рекуррентности однокомпо-нентных предложений в современном английском языке. В кн.: Лексико-грамматические исследования /романо-германские языки/. Новосибирск: Наука, 1981, с. 31 - 40.
164. Теплицкая Н.И. К вопросу об актуальном членении диалогического текста. В кн.: Вопросы романо-германской филологии. Сборник научных трудов. М.: МГПИИЯ им. М.Тореза, 1974, вып. 82, с. 289 - 299.
165. Теплицкая Н.И. О структуре диалогического текста. В кн.: Вопросы романо-германской филологии. Сборник научных трудов. М.: МГПИЙЯ им. М.Тореза, 1975, вып. 84, с. 314 - 330.
166. Тодоров Цв. Грамматика повествовательного текста. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1978, вып.8, с. 450 - 463.
167. Трофимова Э.А. Приемы выражения взаимосвязи реплик диалогической речи: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. М., 1964. - 15 с.
168. Трофимова Э.А. Структурные особенности английской разговорной речи. Ростов-на-Дону: Рост. н/Д гос. пед. ин-т, 1972. - 99 с.
169. Трофимова Э.А. Синтаксические конструкции английской разговорной речи. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского гос. унта, 1981. - 159 с.
171. Философский словарь. М.: Политиздат, 1975. - 496 с.
172. Фостер Дк. Автоматический синтаксический анализ. М.: Мир, 1975. - 71 с.
173. Фридман Л.Г. К вопросу о сверхфразовых единицах /на материале немецкого языка/. В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л.: Наука, 1975,с. 216 221.
174. Фридман Л.Г. Грамматические проблемы лингвистики текста: Автореф. дисс. . доктора филол. наук. Л., 1979. - 52 с.
175. Хлебникова Й.Б. Основные структурные особенности английской диалогической речи. В кн.: Ученые записки МОПИ им. Н.К.Крупской. М., 1970, т. 268, вып. 27, с. 157 - 213.
176. Хлебникова И.Б. К проблеме средств связи между предложениями в тексте. Иностранные языки в школе, 1983, № I,с. 6 II.
178. Холодович А. А. 0 типологии речи. В кн.: Историко-филологические исследования. М.: Наука, 1967, с. 202 - 208.
179. Чувакин А.А. 0 структурной классификации неполных предложений. Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1974, Л 5, С. 104 - 108.
180. Шаройко О.И. Структура диалогической речи в произведениях советской прозы. Одесса: Изд-во Одесского гос. ун-та, 1969. - 69 с. - а.
181. Шаройко О.И. Структура простого предложения в диалогической речи: Дисс. . канд. филол. наук. Одесса, 1969.- 290 л, б.
182. Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М.: Изд-во АН СССР, I960. - 377 с.
183. Шендельс Е.И. Многозначность и синонимия в грамматике.- М.: Высшая школа, 1970. 204 с.
184. Щукин А.А. Текст как объект лингвистического исследования. Вестник МГУ. Востоковедение, 1976, гё 2, с. 69 - 75.
185. Щур Г.С., Мальченко А.А. 0 связях и отношениях в языкознании и об одном средстве текстуальной связи в современном английском языке. В кн.: Лингвистика текста. Ученые записки. М.: МГПЙИЯ им. М.Тореза, 1976, вып. 103, с. 273 - 289.
186. Юдина Н.Е. К вопросу об эмоциональных конструкциях в составе диалогических единств: Дисс. . канд. филол^ наук.- М., 1973. 162 л.
187. Юзовский И.И. Максим Горький и его драматургия. М.: Искусство, 1959. - 779 с.
188. Юхт Б.Л. Некоторые вопросы теории неполных предложений. Научные доклады высшей школы, дологические науки, 1962, Л 2, с. 59 - 69.
189. Юхт Б.Л. О синтаксической природе реплик диалога.- Вестник Харьковского ун-та, 1969, № 42 /Иностранные языки/, вып. 2, с. 80 83.
190. Якубинский Л.П. 0 диалогической речи. В кн.: Русская речь. Петроград: Фонетич. ин-т практич. изучения языков, 1923, с. 96 - 194.
191. Ярцева В.Н. Слова-заместители в современном английском языке. В кн.: Ученые записки ЛГУ им. А.А.Дцанова, серия филол. наук. Л., 1949, 1У, с. 190 - 205.
192. Ященко Л.А. Синтаксико-стилистическая характеристика немецкой диалогической речи /бытовой, судебной, научной/: Автореф. дисс. . канд. филол. наук. Душанбе, 1967. - 27 с.
193. Bellert I. On a Condition of the Coherence of Texts.- Semiotica. The Hague: Mouton, 1970, v. 2, N 4, p. 335 363.
194. Coulthard M. An Introduction to Discourse Analysis. Ld.: Longman, 1977- 195 P
195. Coulthard M. Studies in Discourse Analysis. Ld.: Routledge and Kegan Paul, 1981. - 198 p.
196. Dressier V/. Textgrammatische Invarianz in tlbersetzung-en? In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athe-naum Verlag, 1972, s. 98 - 106.
197. E*ries Ch.C. The Structure of English. Ld.: Longmans, Green and со., 1957. - 304 p.
198. Francis W.N. The Structure of American English. N.Y.: The Roland Press Company, 1958. - 614 p.
199. Gleason H.A.Jr. Linguistics and English Grammar. -N.Y.: Holt, Reinehart and Winston, 1965. 519 p.
200. Gutwinsky V/. Cohesion in Literary Texts. A Study of Some Grammatical and Lexical Features of English Discourse.- The Hague Paris: Mouton, 1976. - 183 p.
201. Gulich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athe-naum Verlag, 1972. - 241 s.
202. Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in iiiglish. Ld.: Longman, 1976. - 374 p.
203. Harnisch H., Schmidt W. Kommunikationsplane und Kommu-nikationsverfahren der rhetorischen Kommunikation. In: Rede -Gesprach - Discussion. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1979, s. 36 - 47.
204. Helbig G. Zu Problemen der linguistischen Beschreibung des Dialogs im Deutchen. Deutch als Eremdsprache. Leipzig, 1975, H. 2, s. 65 - 80.
205. Henne H., Rehbock H. Einfiihrung in die Gesprachsanaly-se. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1982. - 330 s.
206. Hinds J. Aspects of Conversational Analysis. Linguistics. The Hague - Paris: Mouton, 1975, N 149, p. 25 - 40.
207. Karlsen R. Studies in the Connection of Clauses in Current English. Zero, Ellipsis and Explicit Forms. Bergen: J.W.Eides, 1959. - 322 p.
208. Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk. Bern: Francke, 1951. - 437 s.
209. Kummer W. Aspects of a Theory of Argumentation. In: Gulich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/Й: Athenaum Verlag,1972, s. 25 49.214. beech G., Svartvik J. A Communicative Grammar of English. M.: Prosveshcheniye, 1983. - 304 p.
210. The Oxford English Dictionary: In 12 volumes. Oxford: At the Clarendon Press, 1933.
211. Sandig B. Zur Differenzierung gebrauchssprachlicher Textsorten im Deutschen. In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athenaum Verlag, 1972, s. 113 - 124.
212. Schmidt S.J. 1st "Fiktionalitat" eine linguistische oder eine texttheoretische Kategorie? In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athenaum Verlag, 1972, s. 59 - 71.
213. Searle J.R. What is a Speech Act? In: Black M. - ed. Philosophy in America. Ithaca - N.Y.: Cornell Univ. Press, 1965, p. 221 - 239.
214. The Shorter Oxford Dictionary: In 2 volumes. Oxford: At the Clarendon Press, 1933.
215. Stempel W.D. Gibt es Textsorten? In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athenaum Verlag, 1972, s. 175 - 179.
216. Wienold G. Aufgaben der Textsortenspezifikation und Moglichkeiten der experimentellen tJberprufung. In: Giilich E., Reible W. Textsorten. Frankfurt/M: Athenaum Verlag, 1972,s. 144 154.
217. Taylor C. Bread and Butter. In: New English Dramatists, 10. Ld.: Penguin Books, 1967.- Pinter H. The Caretaker. Ld.: Methuen, 1963.- 78 p.- Williams T. Cat on a Hot Tin Roof. N.Y.: New Directions, 1955. - 197 p.
218. Nichols P. Chez nous. Ld.: Faber and Faber, 1974. - 83 p.
219. Chips Weaker A. Chips with Everything. - In: Plays ofthe Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye, 1970.
220. Cigar Osborne J. The End of Me Old Cigar and Jill and
221. Jack. Ld.: Faber and Faber, 1975. - 79 p.
222. City Wesker A. Their Very Own and Golden City. - Ld.:1. Cape, 1966. 92 p.
223. Confusions Ayckbourn A. Confusions. - Ld.: French, 1977»18. Cotton21. Day"s22. Death24. Dillon25. Donkey- 68 p.- Williams T. 27 Wagons Full of Cotton. In: Plays of the Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye. 1970.
224. Dance Browne F. The Family Dance. - Ld.: French, 1976.- 60 p.
225. Desire Williams T. A Streetcar Named Desire. - N.Y.:
226. Pinter H. The Dumb Waiter. In: Plays of the Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye, 1970. Ayckbourn A. Ernie"s Incredible Illucinations.- Ld.: French, 1969. 22 p.
227. Wilde 0. Lady Windermere"s Fan. In: Wilde 0. Plays. M.: Foreign Languages Publishing House, 1961.
228. Storey D. The Farm. Ld.: Cape, 1973. - 95 p. Bingham J. To Father with Love. - Macclesfield (Cheshire): New Playwrights" Network, 1976.- 86 p.
229. Greene G. The Ministry of Fear. Harmondsworth: Penguin Books, 1982. - 221 p. Nichols P. Born in the Gardens. - Ld.; Faber and Faber, 1980. - 74 p.
230. Coburn D.L. The Gin Game. N.Y.: French, 1977- 74 p.
231. Bagnold E. A Matter of Gravity. Ld.: Heine-mann, 1978. - 103 p.
232. Ayckbourn A. Season"s Greetings. Ld.: French, 1982. - 86 p.
233. Kops B. The Hamlet of Stepney Green. In: Penguin Plays. PI 50. Bristol: Penguin Books, 1964. Storey D. Home. The Changing Room. Mother"s Day.- Harmondsworth: Penguin Books, 1978. 269 p. - Pinter H. The Homecoming. - Ld.: Methuen,1965. 83 p.
234. Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye, 1970.
235. Restoration Storey D. The Restoration of Arnold Middleton.- Ld.: Cape, 1967. 104 p.
236. The Root McCarthy C. The Root. - In: Playwrights for
237. Tomorrow. Vol. 12. Minneapolis: The Univ. of Minnesota Press, 1975*
238. Roots Wesker A. Roots. - In: Modern English Plays.
239. M.: Progress Publishers, 1966. 57 Samual Donleavy J.P. The Saddest Summer of Samual S.- In: Donleavy J.P. The Plays. Harmondsworth: Penguin Books, 1974.
240. Shaw Shaw B. Pour Plays. - M.: Foreign Languages
241. Publishing House, 1952. 354 p.
242. Singular Donleavy J.P. A Singular Man. - In: Donleavy
243. Wilde 0. Plays. M.: Foreign Languages Publishing House, 1961.- Plays by and about Women. N.Y.: Vintage Books, 1974. - 425 p.60. Stand61. Summer62. View63» Wilson64. Woman65. Women
244. Year, 17 Plays of the Year. Vol. 17. - bd.: Elek, 1958.- 429 p.
245. York Donleavy J.P. Fairy Tales of New York. - In:
246. Donleavy J.P. The Plays. Harmondsworth: Penguin Books, 1974.
247. Zoo Albee E. The Zoo Story. - In: Plays of the Modern Theatre. L.: Prosveshcheniye, 197o.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания.
В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.
Бузаров Владимир Васильевич – кандидат филологических наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь, Россия
Грибова Полина Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры основ английского языка факультета английского языка Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новгород, Россия
Различные виды вопросительных предложений, открывающие диалог, могут стимулировать разнообразные в структурном и функциональном плане виды вопросительных реплик, многие из которых встречаются только в качестве ответных реплик и не встречаются в инициальных репликах. Вопросительные ответные реплики, или, в терминологии Н.Д. Арутюновой, цитатные вопросы, «всегда представляют собой реакцию на предшествующее высказывание, из которого и происходит заимствование «чужих слов» . В англистике за ними закрепились термины вопросительные реплики-повторы и реплики-переспросы (echo-questions). Они не только «образуют систему своеобразных синтаксических единиц разговорной речи» , но и характеризуются специфической интонационной структурой, отличной от интонации вопросительных предложений, функционирующих в качестве начальных стимулирующих реплик диалога. В большинстве случаев инициальные вопросительные реплики предполагают нейтральную в эмоциональном отношении ситуацию, и их общий мелодический рисунок будет носить спокойный характер. Вопросительные же реплики-реакции, повторяющие материал или его часть из предшествующей вопросительной реплики, в значительной степени предрасположены к выражению эмоционально-модальных значений, и поэтому здесь, скорее всего, следует ожидать специальной интонации, которая выражала бы определенные эмоции. Отмечая у вопросительных реплик-реакций (цитатных вопросов, представляющих собой один из видов диалогической цитации) наличие специфической интонации как релевантного признака «отраженной» речи, Н.Д. Арутюнова подчеркивает, что здесь имеет место «интонационное травестирование реплики: к чужому высказыванию прибавляется суперсегментный (просодический) предикат оценки (субъективного отношения)» .
Вопросительные реплики-реакции, как правило, непредсказуемы, поскольку их появление в диалогической речи обусловлено нелингвистическими факторами. В силу психологических обстоятельств в спонтанной диалогической речи возникают разного рода повторы и переспросы, в том числе в форме вопросов, в которых экспрессивно-эмоциональные значения обычно доминируют над значением вопросительности, затушевывая последнее иногда полностью. Вопросительные реагирующие реплики с повторами часто передают значения удивления, сомнения, возмущения, недоверия, протеста и т.д. и «используются как: 1) экспрессивное средство, 2) средство актуализации тех или иных элементов высказывания «склеивающие» разрыв в цепи синтаксических связей» . Говоря коротко, в них, как правило, реализуется воздействующая на собеседника экспрессивная функция.
Несмотря на их непредсказуемый характер, эти вопросительные реплики-реакции очень типичны для спонтанной диалогической речи, они характеризуются высокой частотностью и носят конвенциональный характер, поэтому знание их структурно-функциональных типов для студентов совершенно необходимо. Среди ответных реплик-реакций, характеризующихся высокой степенью рекуррентности (встречаемости), можно указать следующие: 1) уточняющий вопрос; 2) вопрос-переспрос с повторением (echo-question); 3) восклицательная реплика-повтор (echo-exclamation).
1) В диалогическом единстве «вопрос-вопрос» ответная реакция на вопрос-стимул находит свое выражение в так называемом уточняющем вопросе, представляющем собой специальный вопрос, предельно редуцированный и часто состоящий из одного вопросительного слова (с предлогом или без него). Основная коммуникативная функция уточняющего вопроса состоит в том, чтобы побудить говорящего повторить тот элемент (или элементы) стимулирующей реплики, который (или которые) не был(-и) по какой-то причине должным образом воспринят(-ы) или не был(-и) воспринят(-ы) совсем. Иначе говоря, порождение уточняющих вопросов обусловлено ситуацией непонимания или недопонимания, а также разного рода недомолвками, намеками и т.п. Поэтому они всегда требуют после себя ответа, выполняя одновременно и функцию реагирующей реплики на предшествующий вопрос и стимулирующую функцию для последующей ответной реплики. Таким образом, уточняющий вопрос всегда выступает как связующий компонент между первой и третьей репликами диалогической конструкции. В качестве инициальной реплики, вызвавшей подобную реакцию, определяемую как желание собеседника уточнить какой-то элемент предшествующей реплики, может быть использован как местоименный, так и неместоименный вопрос. Например:
1) «Arlene … what’ll they do to me?»
«Who , the police?»
«Yes». (J. Collier).
2) Geoffrey. … What have you done with that letter of your mother’s?
Billy. What letter ?
Geoffrey. … You know what letter (K. Waterhouse and W. Hall).
«Is that Mike?»
«Who else ?»
«Who indeed? Where are you now?»
«I’m at a party» (W. Trevor).
2) Не менее типичной реакцией на вопросительную стимулирующую реплику является так называемый вопрос-переспрос (echo question – термин У. Чейфа), который представляет собой повторение предшествующей реплики-стимула или ее части. Вопросы с переспросами возникают тогда, когда собеседник в силу психологических причин был не в состоянии воспринять должным образом содержание стимулирующей реплики или оно показалось ему невероятным, и он желает получить подтверждение от своего собеседника, правильно ли он воспринял его вопрос (или какой-то его элемент). Реагирующая реплика с переспросом, функционируя в качестве субъективного отклика на содержание, заключенное в вопросе-стимуле, может выражать целый набор эмоций таких, как: удивление, изумление, возмущение, неверие, несогласие, возражение, протест и т.п.
В повседневном общении встречаются следующие типы диалогических единств, реплики которых связаны отношениями «вопрос-вопрос» и в которых в качестве реплики-реакции используется вопрос с переспросом:
a) переспрос в форме общего вопроса (обычно редуцированного) как реакция на общий вопрос-стимул (инвертированный или без инверсии), например:
1) Tyrone: Is that why you ate so little breakfast?
Mary: So little ? I thought I ate a lot (E. O’Neill).
2) «Don’t you get sore?»
«Sore ?» he said. «Who’s there to get sore?» (W. Saroyan).
3) Poirot said, «You do not think it possible that she committed suicide?»
«She ?» Mrs. Bishop snorted. «No, indeed» (A. Christie).
4) Constance: …I can’t wait any longer. Would you forgive me?
Crossman: Forgive you ? For what?
Constance: For wasting all these years (L. Hellman).
б) «нестандартный» вопрос-переспрос (обычно редуцированный) как реакция на специальный вопрос-стимул стандартного типа. Например:
1) Jimmy: What the devil have you done to those trousers?
Cliff: Done ?
Jimmy: Are they the ones you bought last weekend? Look at them (John Osborne).
2) «What seems to be the complaint?»
«Complaint? Complaint? Crime, more like it. And right under your nose. Detective indeed!» (L. Thomas).
3) Pilot officer: Then why you ask me again?
Andrew: Again , sir?
Pilot officer: Didn’t you? (A. Wesker).
4) «What’s the matter?»
«The matter? Nothing! On the contrary, it’s a piece of good news» (Hitch).
В вопросах-переспросах, как показывают примеры (а, б), внимание адресата направлено на тот элемент стимулирующей реплики, который вызвал у него реакцию удивления, недоумения, гнева и т.п. Именно поэтому в большинстве случаев редукция вопросов-переспросов сводится, как правило, к эллипсису всех элементов, кроме ремы. Вопрос-переспрос, являясь компонентом вербальной реакции (включающей чаще отрицательное отношение) на содержание стимулирующей реплики, теряет в большей или меньшей степени значение вопросительности. Поэтому за ним может следовать дополнительная информация в форме повествовательного или вопросительного предложения, в которой дается разъяснение мнения или позиции адресата (обычно противоположных мнению или позиции говорящего) (см. примеры выше).
в) специальный вопрос-переспрос как реакция на общий вопрос стандартного типа. Вопрос-переспрос (как правило, редуцированный) имеет необычную структуру – в нем вопросительное слово занимает позицию (чаще конечную), совершенно нехарактерную для специальных вопросов обычного типа. Например:
1) Rose: Is he fascinating, Mr. Crossman?
Crossman: … Is who fascinating?
Rose: Nicholas Denery, of course (L. Hellman).
2) «Did you ever see his scrapbooks?»
«His what ?»
«They’re in the library down at Tetbury. All bound in blue morocco.
Gilt-tooled. His initials. Dates. All his press cuttings» (J. Fowles).
3) Peter: … Look here; is this something about the Zoo?
Jerry (distantly): The what ?
Peter: The Zoo; the Zoo. Something about the Zoo (E. Albee).
4) Cliff: Have you seen nobody?
Jimmy: Have I seen who ?
Cliff: Have you seen nobody?
Jimmy: Of course, I haven’t seen nobody (J. Osborne).
г) «нестандартный» специальный вопрос-переспрос как реакция на специальный вопрос стандартного типа. Вопросы-переспросы здесь аналогичны по структуре рассмотренным в предыдущем пункте. Например:
1) Cliff: What did he say?
Jimmy: What did who say?
Cliff: Mr. Priestley.
Jimmy: What he always says, I suppose (J. Osborne).
2) Mrs. Ellis: Who told you, Leon?
Leon: Told me what , Mrs. Ellis? (L. Hellman).
д) специальный вопрос-переспрос «нестандартного» типа как реакция на разделительный вопрос-стимул. Например:
Barbara: You know that Liz is back in town, don’t you?
Billy: Liz who ?
Barbara: You know who. That dirty girl … (K. Waterhouse and W. Hall).
Следует отметить, что местоимения who и особенно what в вопросах с переспросом характеризуются неограниченной возможностью сочетаться практически с любыми словами, которые могут принадлежать различным лексико-грамматическим классам (см. пункты в, г, д). Иначе говоря, их сочетаемость не ограничена глаголами, имеющими соответствующие валентности, и они не соотносятся с определенной синтаксической позицией (подлежащего, дополнения), как это наблюдается в стандартных местоименных вопросах-стимулах. В этих вопросах-переспросах отсутствует прямая синтаксическая связь между компонентами (His what? The what? A what? Liz who? и др.).
3) Достаточно часто за вопросительной репликой-стимулом, открывающей диалог, в качестве ответной реакции может следовать вопросительная реплика, аналогичная по форме вопросительной реплике-переспросу, но потерявшая полностью значение вопросительности и выражающая эмоциональное значение удивления, возмущения, гнева и т.п. Это так называемые восклицательные реплики-повторы, или, в терминологии Н.Д. Арутюновой, экспрессивные цитации. Доминирующее в таких репликах то или иное эмоциональное значение представляет собой своеобразный способ показать, что адресат не только не соглашается с мнением своего собеседника, но и отвергает его. Восклицательную реплику-повтор можно рассматривать как своего рода диалогический протест против информационного требования, содержащегося в вопросе-стимуле. Например:
1) Miss Eynsford Hill (gaily): Is it so very cynical?
Higgins: Cynical! Who the dickens said it was cynical? I mean it wouldn’t be decent (B. Shaw).
2) Jimmy: … Why-why are you letting her influence you like this?
Alison (starting to break): Why, why, why, why! (Putting her hands over her ears). That word’s pulling my head off! (J. Osborne).
3) Blanche: What do his people say, papa?
Sartorius: His people! I don’t know.
Blanche: What does he say?
Sartorius: He! He says nothing (B. Shaw).
Подобная восклицательная реплика-повтор встречается и после разделительного вопроса-стимула (disjunctive question). Например:
Liza (breathless) … I’ve won your bet for you, haven’t I?
Higgins: You won my bet! You! Presumptuous insect. I won it (B. Shaw).
Восклицательная реплика-повтор, являясь эмоциональной реакцией на вопросительную инициальную реплику говорящего, воспроизводит, как правило, тот компонент (или компоненты) предшествующей реплики, который (или которые) вызвал(-и) отрицательную реакцию. В отдельных случаях инициальная реплика может быть повторена (с незначительными модификациями) полностью (см. последний пример).
В таких случаях эффект эмоциональности достигается за счет восклицательной интонации, для которой характерна особая фонация голосовых органов. Можно сказать, что такие восклицательные реплики-реакции почти не выражают никакой интеллектуальной информации, в значительной степени они «коммуникативно опустошены», поскольку основной их функцией является выражение негативного отношения к содержанию предшествующей реплики с целью эмоционального воздействия на собеседника. Довольно часто восклицательная реагирующая реплика сопровождается информацией интеллектуального плана, в которой вскрывается причина, вызвавшая отрицательную эмоцию (см. примеры выше).
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что подобное исследование диалогической речи в плане предсказуемости/непредсказуемости порождения определенных типов ответных реплик следует рассматривать как один из возможных подходов к изучению такого сложного явления, каким является диалог.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Арутюнова, Н.Д. Диалогическая цитация. (К проблеме чужой речи) // ВЯ, 1986, № 1.
2. Шведова, Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. – М.: Наука, 1960.
3. Земская, Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. – М.: Русский язык, 1979.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Albee, E. The Zoo Story. – In: Plays of the Modern Theatre. Leningrad, 1970.
2. Christie, A. The Case of the Distressed Lady. – In: Moscow News, 1985.
3. Collier, J. The Touch of Nutmey Makes It. – In: Baker’s Dozen. – M., 1979.
4. Fowles, J. The Ebony Tower. – M., 1980.
4. Hellman, L. The Autumn Garden. – In: Three American Plays. – M., 1972.
6. Hitch, L. Live Their Own Life. – In: The Book of American Humor. – M., 1984.
7. O’Neill, E. Long Day’s Journey into Night. – In: Three American Plays. – M., 1972.
8. Osborne , J. West of Suez. – In: Modern English Drama. – M., 1984.
9. Saroyan, W. Plays. – M., 1983.
10. Shaw, B. Pygmalion. – M., 1972.
11. Thomas, L. Dangerous Davies: the last detective. – London-Sidney, 1977.
12. Trevor, W. The Day We Got Drunk on Cake. – In: Making It All Right. – M., 1978.
13. Waterhouse, K. & Hall, W. Billy Liar. – In: Modern English Plays. – M., 1966.
14. Wesker, A. Chips with Everything. – In: Plays of the Modern Theatre. – Leningrad, 1970.