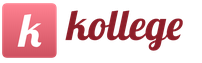Дэвид Гланц
Крах плана «Барбаросса». Сорванный блицкриг. Том II
Крах плана «Барбаросса». Сорванный блицкриг. Том IIДэвид Гланц
Американский военный историк полковник Дэвид Гланц исследует причины и следствия Смоленского сражения, представляющего собой серию военных операций, развернувшихся в Центральной России в районе Смоленска. Более двух месяцев войска Западного, Центрального, Резервного и Брянского фронтов Красной армии сражались с силами немецкой группы армий «Центр». Это тяжелейшее противостояние закончилось стратегической победой Красной армии. Воспроизводя события под Смоленском, Гланц использует исключительно документальные материалы. В ходе исследования он приходит к выводу, что урон, нанесенный вермахту Красной армией во время контрнаступления в этом районе, был столь значительным, что обусловил и приблизил поражение Германии у ворот Москвы в декабре 1941 г. Что, в свою очередь, способствовало провалу операции «Барбаросса» и в конечном счете краху вермахта.
Повествование иллюстрируют подлинные немецкие тактические карты. В приложении даны исчерпывающие сведения о состоянии войск вермахта и Красной армии.
Дэвид Гланц
Крах плана «Барбаросса». Сорванный блицкриг. Том 2
© David M. Glantz 2011
© Перевод, издание на русском языке, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015
© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015
Предисловие
Предлагаемое вниманию читателя исследование посвящено причинам и следствиям Смоленского сражения – серии военных операций, развернувшихся в Центральной России в районе Смоленска в период с 10 июля по 10 сентября 1941 г. Если подходить к этой теме в общем, то боевые действия на этом участке развернулись три недели спустя после нападения германского Третьего рейха Адольфа Гитлера на Советский Союз 22 июня 1941 г. Целью операции под кодовым названием «Барбаросса», немецкого вторжения в СССР, было сокрушение Красной армии, уничтожение Советского Союза, свержение коммунистического режима Сталина, завоевание большей части территории Советского Союза и эксплуатация вышеупомянутых территорий нацистской Германией. Два с лишним месяца в районе Смоленска силы группы армий «Центр» вермахта противостояли силам Западного фронта Красной армии, а также Центрального, Резервного и Брянского фронтов. Всего в боевых действиях участвовало с немецкой стороны свыше 900 тысяч солдат и офицеров, действовавших при поддержке около 2 тысяч танков, с советской стороны – примерно 1,2 миллиона солдат и офицеров при поддержке свыше 500 танков.
За все миновавшие со времени окончания Второй мировой войны годы большинство авторов многочисленных военных мемуаров и военных историков рассматривали Смоленское сражение июля, августа и начала сентября 1941 г. как не более чем эпизодические схватки, своего рода «ямки» на в целом ровной дороге наступательной операции под кодовым названием «Барбаросса». 22 июня 1941 г. гитлеровский вермахт широчайшим фронтом от Баренцева моря до Черного приступил к осуществлению этого зловещего плана. Применив выдержавшую испытание временем стратегию и тактику блицкрига, или «молниеносной войны», то есть нанесение мощных ударов танковыми группировками (при господстве с воздуха. – Ред.), вторгшиеся силы немцев в течение нескольких недель сумели разгромить части Красной армии, оборонявшие западные приграничные районы Советского Союза и, завершив разгром, стали углубляться в обширные стратегические глубины Советского Союза, продвигаясь в северо-восточном и восточном направлениях. Смоленское сражение началось 10 июля 1941 г., когда силы группы армий «Центр» под командованием фельдмаршала Федора фон Бока, форсировав Западную Двину и Днепр, в соответствии с планом «Барбаросса» приступили к нанесению молниеносного удара на Смоленском направлении. Закончилось Смоленское сражение 10 сентября 1941 г., когда началось наступление 2-й армии и 2-й танковой группы армий «Центр» в южном направлении, завершившееся окружением и разгромом Юго-Западного фронта Красной армии в районе Киева, одним из самых тяжелых в боевой истории Красной армии. А Смоленское сражение, напротив, означает затянувшиеся на два с лишним месяца бои, увенчавшиеся победой (стратегической. – Ред.) Красной армии в районе Смоленска.
Данное исследование войны в России лета 1941 г. носит строго документальный характер. Решение автора прибегнуть к такому методу подачи материала, в первую очередь, продиктовано тем, что впервые после окончания советско-германской войны он решил воспользоваться, образно выражаясь, «наземным контролем данных», а именно – отслеживанием первоисточников, в которых зафиксирован ход боевых действий сторон, как в стратегическом, так и в оперативно-тактическом аспекте. Данное исследование также уникально и потому, что большинство историков, занимавшихся темой советско-германской войны, при изучении событий упомянутой войны в целом или же ее периодов по разным причинам не имели возможности прибегнуть к вышеуказанному методу. Важность данного исследования трудно переоценить еще и потому, что боевые действия на Смоленском направлении летом 1941 г. вызывали и вызывают до сих пор массу споров. В частности – жаркие дебаты о том, было ли разумным решение Адольфа Гитлера приостановить продвижение группы армий «Центр» к Москве с начала сентября до начала октября 1941 г. ради разгрома сил Красной армии, сосредоточенных на Киевском направлении.
Это исследование основывается исключительно на документах еще и потому, что автор ставит перед собой нелегкую задачу по опровержению расхожего мнения о том, что Смоленское сражение – всего лишь эпизод, хоть и досадный, но малозначительный в сравнении с молниеносным продвижением немцев на Москву. Однако, призвав на помощь новые архивные материалы, данное исследование, напротив, доказывает, что Смоленское сражение явилось куда более значимым по масштабам, чем было принято считать ранее, что оно серьезно нарушило планы группы армий «Центр» и в конечном счете в значительной степени способствовало действенности первого отрезвляющего удара, который был нанесен русскими группе армий «Центр» у ворот Москвы в начале декабря 1941 г. Наконец, предлагаемое исследование документальное еще и потому, потому что восстанавливает существенное, хоть и полузабытое сражение, в хронологии войны, то есть широкомасштабное контрнаступление Красной армии в сентябре 1941 г. под Смоленском.
Поскольку данное исследование в большой степени полагается именно на «наземный контроль данных» при описании боевых действий, содержащиеся в нем выводы, его построение и содержание основываются на надежных документах-первоисточниках. Это неприкрашенное повествование о ходе и исходе военных операций под Смоленском, в основу которого легли выдержки из директив, приказов, донесений и критических оценок штабов обоих участников сражений.
В частности, в исследование включены документы, начиная от Верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) и Ставки (советского Верховного главнокомандования) и далее штабов фронта, армий и даже дивизий.
Поскольку точность – непреложный фактор ценности исследования, один из его томов специально выделен автором для опубликования переведенных с максимальной точностью документов в их полном виде, процитированных фрагментарно в остальных томах. Для облегчения пользования в необходимых случаях на полях имеются соответствующие сноски с указанием номера документа и соответствующего приложения. Это весьма важно по двум достаточно серьезным причинам. Во-первых, дословный перевод документов необходим для подтверждения точности содержания исследования. Во-вторых, построение и содержание упомянутых директив, приказов, донесений и критических анализов, как и их язык, представляют читателю уникальные в своем роде портреты командующих, составлявших вышеперечисленные документы. Иными словами, подлинность языка, лаконичность и логика формулировок документов или же, напротив, нехватка перечисленных признаков отражают гибкость ума, компетентность командующих (или же отсутствие таковых), а также обрисовывают и присущие им хоть и куда менее ярко выраженные, но от этого ничуть не менее важные черты, такие, например, как эгоистичность, безжалостность и их моральное состояние на тот или иной период.
Следует упомянуть и о том, что чрезвычайно подробное изложение хода боевых действий, занимающее два тома, которым суждено впоследствии стать не только книгами для прочтения, но и материалом для серьезного изучения, потребовало и включения в него достаточно большого количества картографического материала, без которого трудно представить активное визуальное восприятие хода боевых действий Смоленского сражения как в стратегическом, так и в оперативно-тактическом аспекте. Поэтому автор решил включить в оба тома разные по охвату местности оперативные карты. Но поскольку упомянутые карты не обеспечивают в достаточно полной мере возможность отразить ряд деталей тактического порядка, как и объяснить содержание архивных материалов (помещенных в виде выдержек и в полном виде опубликованных в дополнениях), по мнению автора, необходимо было поместить и картографический массив подробных ежедневных карт германского и советского командования в качестве дополнения к боевым сводкам, приказам и директивам.
Принимая во внимание огромный объем новых архивных материалов, составивших основу данного исследования, я хочу выразить глубокую признательность правительству Российской Федерации, обеспечившему мне доступ к самым важным для работы над исследованием документам.
Дэвид М. Гланц
Карлайл, Пенсильвания
Введение
В контексте событий
Судя по всему, летом 1941 г. Германия, во главе с ее фюрером Адольфом Гитлером, просто решила повторить блестящие военные подвиги недалекого прошлого, только на сей раз напав на могущественный Советский Союз. За два года до этого, в сентябре 1939 г., неоперившийся юнец – германский вермахт – всего за месяц разгромил армию Польши, и в результате страна была цинично поделена между Германией и Советским Союзом
Всего полгода спустя, в апреле 1940 г., вермахт в несколько дней оккупировал Данию и Норвегию (в Норвегии бои продолжались до 10 июня. – Ред.), затем последовал новый успех – вторжение с 10 мая в Нидерланды, Бельгию и Люксембург, а затем во Францию. В очередной раз блицкриг доказал превосходство немцев. Вермахт, зажав в руке смертоносное копье – танковые и моторизованные силы и наводившие ужас пикирующие бомбардировщики Юнкерс-87 «Штука», – поверг в ужас французов и англичан, вынудив последних спешно эвакуировать остававшиеся на Европейском континенте силы через Дюнкерк. Потрясенный мир взирал на то, как немецкие войска входили в Париж, как правительство Франции молило о перемирии после семи недель войны. А в апреле 1941 г. лишь небольшая часть вооруженных сил Германии завоевала Югославию. Причем всего за четыре дня. Пару недель спустя пала и Греция.
После поражений, нанесенных Германией самым крупным и хорошо вооруженным армиям Европы, войска Гитлера 22 июня 1941 г. вторглись в Советский Союз, и немногие тогда, если таковые вообще находились, верили, что Красная армия Советского Союза устоит в вооруженной борьбе с вермахтом, сильнее которого, по общему мнению, в Европе не было никого. И на самом деле, разрабатывая свой план «Барбаросса», Гитлер исходил из того, что Советский Союз во главе с безжалостным коммунистическим диктатором Иосифом Сталиным неизбежно рухнет, стоит вермахту разгромить основные группировки Красной армии, сосредоточенные в западных приграничных районах Советского Союза, то есть на 250–450-километровой полосе территорий между западной границей Советского Союза и реками Западная Двина и Днепр.
Гитлер считал свою идею абсолютно верной по трем основным причинам. Во-первых, Красная армия крайне неудачно показала себя в ходе так называемой «зимней войны» с Финляндией в ноябре 1939 – марте 1940 г. Пережив трудности и расстройство планов на первом этапе этой войны, Советский Союз все же сумел добиться ограниченной победы на второй ее стадии лишь ценой явного численного превосходства. Во-вторых, после того как Сталин в первой половине 1930-х гг. сосредоточил в своих руках, по сути, неограниченную власть в результате кровавых чисток и устранения всех своих потенциальных политических противников, в 1937–1938 гг. он провел чистку и советских вооруженных сил, офицерского корпуса высшего командного уровня, устранив физически или бросив в лагеря тысячи, если не десятки тысяч офицеров. В результате оставшиеся в живых и на свободе офицерские кадры Красной армии были назначены на командные должности, для которых нередко просто не годились, а те, которые годились, инициативы не проявляли, страшась участи своих погибших во время чисток товарищей. В-третьих, и это был самый важный фактор, Гитлер рассуждал следующим образом: если вермахт смог продвинуться на 300 км менее чем за 30 дней, чтобы победить поляков, на 320 км приблизительно за семь недель, чтобы разгромить вооруженные силы Франции и Нидерландов, и на 200–300 км примерно за две недели, чтобы сокрушить Югославию и Грецию, то уж Красную армию он как-нибудь разобьет, продвинувшись на 250–450 км до Западной Двины и Днепра за четыре, от силы – за пять недель. Тем более что до сталинской столицы после этого оставалось бы всего-то 450 км, поэтому Гитлер не сомневался, что его вермахт спокойно доберется до Москвы за три месяца, считая от начала немецкого вторжения, то есть примерно в октябре, иными словами, до начала зимы в России.
1 – Великие Луки; 2 – Даугавпилс; 3 – Полоцк; 4 – Витебск; 5 – Орша; 6 – Монастырщина; 7 – Борисов; 8 – Минск; 9 – Могилев; 10 – Гомель
А тем, кто нес главную ответственность за то, чтобы Гитлер не просчитался, был фельдмаршал Федор фон Бок, весьма сведущий командующий немецкой группой армий «Центр», самой мощной из трех групп армий, участвовавших в осуществлении плана «Барбаросса». Группе армий фон Бока, включавшей две из четырех танковых групп, была поставлена задача вторгнуться в Советский Союз с территории оккупированной немцами Польши и, стремительным ударом смяв противостоящие ей силы Красной армии, продвигаться в восточном направлении вдоль Западной (Московской) оси, громя по пути оставшиеся советские войска, овладевая Минском и Смоленском, и уже после этого выйти на финишную прямую – к советской столице Москве.
Нанеся внезапный удар 22 июня 1941 г., армейская группа фон Бока вскоре в значительной степени превзошла ожидания Гитлера. В течение первых десяти дней операции «Барбаросса» силы группы армий «Центр», возглавляемые 3-й и 2-й танковыми группами, сумели рассечь, окружить и разгромить три советские армии, 3, 4 и 10-ю (а также часть 13-й армии. – Ред.), тем самым рассеять или взять в плен свыше полумиллиона солдат и офицеров Красной армии и овладеть столицей Белоруссии Минском (пал 28 июня). После этого всего за неделю немецкие танковые войска – многочисленные моторизованные корпуса танковых групп – вышли к Западной Двине и Днепру, продвигаясь широким фронтом от Полоцка на севере до Рогачева на юге. К 7 июля основная из поставленных Гитлером задач была выполнена всего за две с лишним недели (см. карту 1). Ничуть не смущаясь от столкновения с новыми силами Красной армии на рубеже рек Западная Двина и Днепр, группа армий «Центр» неудержимо продвигалась в восточном направлении, по пути форсировав две крупные водные преграды, обратив в бегство пять армий Советов (16, 19, 20, 21 и 22-ю) и овладев городом Смоленском, после чего окружила еще три армии неприятеля (16, 19 и 20-ю) к северу от города. Захватив Смоленск 16 июля, силы фон Бока продвинулись примерно на 500 км за 25 дней боев, побив при этом все рекорды стремительности наступления, поставленные вермахтом в ходе кампаний в Европе (см. карту 2). И до главной цели операции – Москвы – оставалось, таким образом, всего 300 км. То есть, если исходить из прежних темпов наступления – 20 км в день и 140 км в неделю, учитывая паузы на отдых, ремонт техники и пополнение запасов, от Москвы фон Бока отделяли 2–3 недели.
1 – Витебск; 2 – Духовщина; 3 – Смоленск; 4 – Ельня; 5 – Орша; 6 – Починок; 7 – Спасо-Деменск; 8 – Рославль; 9 – Брянск
Хотя фон Бок вынужден был приостановить наступление войск группы армий «Центр» на Москву примерно на две недели, чтобы сокрушить три советские армии, окруженные в районе Смоленска, его силам, однако, удалось извлечь выгоду из этой паузы, атаковав и разгромив крупные группировки сил Красной армии, угрожавшие группе армий «Центр» на северном и южном флангах. Еще в ходе планирования операции «Барбаросса» Гитлер обратил внимание своих командующих на то, что эти успешные действия группы армий «Центр» на флангах – залог дальнейшего успеха операции. В соответствии с директивами фюрера примерно половина пехотных сил 4-й «танковой» армии фельдмаршала Гюнтера фон Клюге и 9-я армия генерал-полковника Адольфа Штрауса, усиленные четырьмя танковыми и моторизованными дивизиями, сузили в период с 16 июля по 6 августа 1941 г. кольцо окружения под Смоленском. Одновременно с этим большая часть 3-й танковой группы генерал-полковника Германа Гота и 2-я танковая группа генерал-полковника Гейнца Гудериана обеспечила «внешнюю линию окружения» северо-восточнее и юго-восточнее Смоленска для сдерживания советских сил извне. Остальные силы Гота и Гудериана продолжали сужать кольцо окружения. В конечном счете сражения вдоль «внешней линии окружения» вовлекли девять из танковых и моторизованных дивизий Гота и Гудериана, которым противостояли пять малочисленных, наспех сформированных армий Советов (29, 30, 19, 24 и 28-я), которые Ставка и командование Западным фронтом развернули вдоль группы армий «Центр», решив создать так называемый восточный фронт северо-восточнее и восточнее Смоленска, а также юго-восточнее Ельни.
Пока вдоль «внешней линии окружения» бушевали ожесточенные бои, предпринимались попытки охвата северного и южного флангов группы армий «Центр». На северном участке примерно половина 9-й армии Штрауса при поддержке одной танковой и одной моторизованной дивизий танковой группы Гота обороняла северный фланг группы, захватив район Невеля. На южном участке 2-я армия фельдмаршала Максимилиана фон Вейхса при поддержке двух танковых и одной моторизованной дивизий 2-й танковой группы Гудериана сумела оттеснить советские силы от южного фланга группы армий «Центр» в район Рогачева и Жлобина и к реке Сож. А в первую неделю августа танки и моторизованная пехота Гудериана нанесли удар по советским силам в северном направлении со стороны Рославля и стали продвигаться к Смоленску. Всего за шесть дней силам Гудериана удалось окружить и уничтожить основную часть семи дивизий группы войск под командованием Качалова. Относительно легкие победы Штрауса и Гудериана на северных и южных флангах группы армий «Центр» ничуть не удивили Гитлера (см. карту 3). На самом деле, разрабатывая стратегию войны на Востоке, фюрер всегда выдвигал на первый план стремительные и эффективные удары на флангах, предпочитая их, по его мнению, кровопролитным фронтальным сражениям с силами Красной армии вдоль Московской оси.
1 – Витебск; 2 – Дорогобуж; 3 – Смоленск; 4 – Мосальск; 5 – Людиново; 6 – Могилев; 7 – Чаусы; 8 – Брянск; 9 – Новозыбков
Таким образом, к концу первой недели августа и у Гитлера, и у его ОКВ (Верховное главнокомандование вермахта), и у его ОКХ (главное командование сухопутных войск), и у фельдмаршала фон Бока были все основания гордиться победами группы армий «Центр», одержанными ею в течение первых полутора месяцев войны в России, в ходе выполнения операции «Барбаросса». За фантастически короткий период после блестящих побед в приграничных районах группа армий «Центр» фон Бока уничтожила силы второго эшелона Красной армии у Западной Двины и Днепра, захватила Смоленск, издавна считавшийся восточными воротами Москвы, в результате чего Западный фронт Красной армии под командованием Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко потерял убитыми, ранеными, пропавшими без вести или захваченными в плен свыше 600 тысяч солдат и офицеров.
Торжествуя по поводу этого воистину «подвига Геракла», сам Гитлер, большинство его генералитета и немецкие солдаты не ожидали ничего, кроме скорой победы немцев, основанной на тактике блицкрига и продолжении триумфального шествия немецких войск к Москве.
Несмотря на победы вермахта на участке группы армий «Центр» за первые полтора месяца войны, отдельные события указывали на то, что будущие победы окажутся уже не столь легкими. Самым главным признаком был крах расчетов Гитлера относительно того, что Советский Союз неизбежно падет после того, как вермахт уничтожит большую часть Красной армии к западу от Западной Двины и Днепра. Уже к 10 июля это предположение оказалось абсолютно неверным. Хотя армейская группа фон Бока и разгромила три из четырех полевых армий советского Западного фронта (3, 4 и 10-ю) к концу июня, но, дойдя до вышеуказанных двух рек 7 июля, фон Бок вдруг обнаружил еще пять советских армий (16, 19, 20, 21 и 22-ю), которые все же оказали ему хоть и недостаточное, но все-таки упорное сопротивление. Четыре недели спустя, после окружения и почти полного разгрома трех из этих пяти армий (16, 19 и 20-й) под Смоленском к 6 августа, фон Бок с явным недоумением обнаружил на фронте своей группы армий еще пять непонятно откуда взявшихся советских армий (24, 28, 29, 30-ю и ярцевскую группу), которые будто феникс из пепла возникли из тылов Красной армии и соединились с пока что целыми 13, 21 и 22-й армиями. К тому же его ждал еще один сюрприз: каким-то образом ускользнув от внимания германской разведки, в глубоком тылу СССР формировалось еще несколько армий (31, 33 и 43-я). Немцы были свято убеждены, что с русскими покончено уже после сражений на подступах к Смоленску, но на самом деле подобные появления как бы ниоткуда свежих сил русских будут преследовать немцев до самого конца 1941 г.
Вторым показателем, внушившим тревогу германскому генералитету еще в начале августа, был вывод о том, что война на Востоке существенно отличалась от предыдущих войн на Западном фронте в нескольких важных аспектах. Прежде всего, сражения первых шести недель войны продемонстрировали, что «восточные километры» выглядят совсем не так, как «западные». Весьма слабо развитая сеть дорог вкупе с более широкой железнодорожной колеей чрезвычайно затрудняли ведение наступательных операций.
После дождей грунтовые дороги превращались в непроезжую грязь, а различие в ширине железнодорожной колеи вынуждало вермахт перешивать ее на европейский стандарт по мере продвижения в восточном направлении. Головной болью немецких частей снабжения наряду с необходимостью восстанавливать взорванные мосты стали постоянные перебои войскового подвоза продвигавшихся на восток немецких войск. Сильнее всего описанная ситуация отразилась на танковых и моторизованных частях и соединениях обеих танковых групп фон Бока, которые согласно общепринятой тактике блицкрига далеко отрывались от пехотных и других соединений группы армий «Центр». Проще говоря, острая нехватка горючего ударили по боеготовности сил, глубоко вклинившихся на неприятельскую территорию. И наконец, хоть это вряд ли могло служить серьезной причиной ограничения боеспособности и маневренности вермахта по крайней мере до октября 1941 г., климат России с его резкими сезонными перепадами температуры также усугублял перебои войскового подвоза.
В оперативном отношении и в меньшей степени в тактическом из-за всех вышеописанных сложностей с войсковым подвозом вермахт все же не смог постоянно поддерживать бешеные темпы блицкрига на столь обширном театре военных действий, отличавшемся вдобавок и почти полным отсутствием соответствующей инфраструктуры. В итоге реальность подвергла сомнению еще один ключевой прогноз немцев относительно успешных оперативных перспектив операции «Барбаросса», базировавшейся именно на молниеносной войне, великолепно зарекомендовавшей себя на Западном фронте. В результате – явное отсутствие легких и скорых побед на Восточном. И когда немцы примерно к середине июля окончательно убедились в этом, вермахт на самом деле вынужден был перейти на некий «особый способ» проведения всех наступательных операций – сначала мощный рывок вперед, потом длительные периоды отдыха, ремонта техники и восстановления сил.
Третий показатель – оценка немцами самой Красной армии, ее командиров и рядового состава также оказалась несостоятельной, что в будущем доставило им массу проблем. В этом отношении немцы основывались на впечатлениях и опыте прошлых лет, действиях Красной армии в Польше в сентябре 1939 г. и в Финляндии с конца ноября 1939 г. по март 1940 г. Именно тогда у немцев сформировалось мнение о том, что красноармейцам ни за что не выдержать ни танковых атак, ни налетов пикирующих бомбардировщиков, не устоять в боях с испытанными в боях немецкими солдатами. И хотя отчасти мнение это основывалось на объективном анализе, в основном оно основывалось на догмах нацистской идеологии о «неполноценных народах», которые не способны воспитать и обучить настоящих офицеров и командиров, не уступающих немецким. Увенчивала упомянутую оценку еще одна идея: дескать, и Красная армия, ее офицеры и солдаты, а возможно, даже целые категории населения Советского Союза (белорусы, украинцы и другие национальности, в особенности народы Кавказского региона) ненавидят и Сталина, и саму коммунистическую систему. Поэтому, рассуждали немцы, при любой благоприятной возможности эти офицеры и солдаты сложат оружие, сдадутся в плен или же просто-напросто исчезнут, затерявшись на бесконечных просторах России.
К началу августа, однако, эти предположения оказались совершенно ни на чем не основанными. Хотя солдаты Красной армии действительно сдавались в плен или же сотнями дезертировали (чего нельзя сказать об офицерах), десятки, а то и сотни тысяч героически сражались, проявляя чудеса храбрости, нередко жертвуя жизнью в боях. И надо сказать, это в немалой степени охладило пыл очень многих солдат и офицеров вермахта, лишило их иллюзий на скорую, бескровную и легкую победу в России.
Однако, невзирая на все сложности, испытываемые немцами, политическое руководство и военное командование Советского Союза, офицеры и солдаты Красной армии в июле и в начале августа 1941 г. подверглись невиданным испытаниям, перед ними встали внушавшие ужас, казавшиеся неразрешимыми проблемы. Период с конца июня, весь июль и по начало августа был отмечен следовавшими одна за другой катастрофами, небывалыми кризисами для Красной армии. И самой серьезной из проблем, потребовавшей впоследствии колоссальных усилий для их восполнения, были потери офицерского состава, приведшие к сокращению его до одной трети штата офицеров мирного времени и произошедшие всего за первые полтора месяца войны. В целом, вероятно, речь идет о потерях не менее 1,5 миллиона солдат и офицеров – цифра, неуклонно увеличивавшаяся и достигшая в конце концов почти 3 миллионов человек к концу августа 1941 г. Поскольку ожесточенные бои всего этого периода по нарастающей лишали Красную армию своих лучших и наиболее подготовленных солдат, им на замену приходили необстрелянные и весьма поверхностно подготовленные резервисты и призывники со всех концов Советского Союза. В сложившейся ситуации высшее командование Красной армии оказалось перед необходимостью приступить к интенсивному обучению молодых офицеров и солдат, причем обучать их приходилось непосредственно на поле боя, в боях с накопившими боевой опыт в Европе, до зубов вооруженными солдатами противника. Поразительно длинный перечень разгромленных или почти разгромленных советских армий, хоть в какой-то степени и компенсированный новым пополнением, служил доказательством сложившейся катастрофической ситуации.
Положение усугублялось еще и тем, что значительную часть офицеров Красной армии составляли «политические комиссары», то есть чисто идеологические, но никак не командные кадры, многие из которых, включая представителей генералитета, пережили чистки конца 1930-х гг. и были вынуждены принимать командование над частями и соединениями, не имея ни соответствующих навыков, ни образования, да еще в условиях навязанной немцами тактики и стратегии «молниеносной войны». В результате после пережитых в 30-х гг. сталинских чисток за несколько лет до войны командование Красной армии в 1941 г. подверглось еще одной «чистке» – «чистке огнем» в течение первых шести недель войны. Этот чисто дарвинистский процесс «естественного отбора», то есть освоение науки боя на поле боя, был чреват гибелью и их самих, и их подчиненных – рядовых солдат, вынужденных выполнять их не всегда разумные и оправданные военной необходимостью приказы. И напротив, что самое удивительное, бои в июле и начале августа продемонстрировали также и то, что среди многочисленного офицерского корпуса Красной армии, крайне разнородного по своему составу, все же были и те, кто сумел доказать командные умения и навыки в боевой обстановке и в результате понимал, как уничтожить противника и, в то же время, выжить самому. Немало таких было и среди высшего командования. Поэтому, кроме выдающегося командира Жукова и других, таких как Тимошенко, Конев, Рокоссовский, Курочкин и Плиев, были и другие генералы, которые выжили в июльско-августовской мясорубке и в грядущем привели свои фронты, армии и корпуса к победе. Конев и Рокоссовский, самые заметные из выживших тогда, возглавили одни из самых главных фронтов Красной армии – 1-й Украинский и 2-й Белорусский фронты, которым в конце концов было суждено победоносно завершить Берлинскую операцию в апреле – мае 1945 г.
Текущая страница: 1 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
Дэвид Гланц
Крах плана «Барбаросса». Противостояние под Смоленском. Том I
© David M. Glantz 2010
© Перевод, издание на русском языке, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015
© Художественное оформление, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2015
Предисловие
В данной работе проводится исследование характера и последствий Смоленского сражения – серии военных операций на территории Смоленской области в центральной части России в период с 10 июля по 10 сентября 1941 г. Собственно сражение началось через три недели после того, как 22 июня 1941 г. немецкие войска вторглись в Советский Союз. Целью немецкого вторжения в рамках операции под кодовым названием «Барбаросса» было сокрушить и уничтожить Красную армию, свергнуть коммунистический режим, руководимый Иосифом Сталиным, оккупировать значительную часть Советского Союза и эксплуатировать захваченные области на благо нацистской Германии. Десять недель немецкая группа армий «Центр» вела в Смоленской области напряженные бои с войсками советского Западного фронта, а впоследствии Центрального, Резервного и Брянского фронтов. В боевых действиях участвовало более 900 тысяч немецких солдат при поддержке приблизительно 2 тысяч танков. Им противостояли силы Красной армии численностью около 1,2 миллиона солдат при поддержке примерно 500 танков.
Более 60 лет после окончания войны большинство мемуаристов и военных историков рассматривало боевые действия на территории Смоленской области в июле, августе и начале сентября 1941 г. как не более чем надоедливые «выбоины» на гладком пути наступательной операции под кодовым названием «Барбаросса». Немецкие вооруженные силы и их союзники начали операцию «Барбаросса» 22 июня 1941 г. вдоль огромного фронта, растянувшегося от берегов Баренцева моря на севере до Черноморского побережья на юге. Используя хорошо зарекомендовавшую себя стратегию молниеносной войны и тактику стремительных танковых ударов, немецкие силы вторжения в считаные недели разгромили соединения Красной армии, защищавшие западные пограничные районы Советского Союза. После этого они устремились в северо-восточном и восточном направлениях, в глубь обширной территории Советского Союза.
Сражение за Смоленск началось 10 июля 1941 г., когда войска немецкой группы армий «Центр» фельдмаршала Федора фон Бока переправились через Западную Двину и Днепр и, в соответствии с планом «Барбаросса», начали оперативные действия восточнее, в направлении к городу Смоленску. Сражение фактически завершилось 10 сентября 1941 г. В этот день 2-я армия группы армий «Центр» и 2-я танковая группа начали наступление на юг, кульминацией которого стало окружение и разгром Юго-Западного фронта в районе Киева, одно из наиболее тяжелых поражений Красной армии. Таким образом, Смоленское сражение представляло собой десять недель упорных боев за овладение стратегической инициативой и победу на территории Смоленской области РСФСР и примыкающих областей Белорусской ССР и РСФСР.
Это исследование «строго документальное», и прежде всего потому, что за основу берется «наземный контроль данных», в частности ежедневные стратегические, оперативные и тактические отчеты о силах, которые участвовали в боевых действиях. В связи с этим данное исследование уникально еще и потому, что большинству исследований, описывающих советско-германскую войну в целом или отдельные ее сражения или операции, явно недоставало упомянутого документализма и детальности. Это особенно важно, поскольку бои на территории Смоленской области в разгар лета 1941 г. также породили множество противоречий. Это противоречие, в частности, связано с ожесточенными спорами по поводу мудрости решения диктатора Германии Адольфа Гитлера задержать наступление группы армий «Центр» на Москву с начала сентября до начала октября 1941 г. ради разгрома крупных сил Красной армии в районе Киева.
Это исследование должно быть «документальным» по своей природе, поскольку оно бросает вызов общепринятой точке зрения, согласно которой бои на Смоленщине были не чем иным, как лишь «выбоинами» на гладком пути немцев к Москве. И в отличие от предыдущих исследователей на основе новых архивных материалов автор утверждает, что Смоленское сражение имело куда более широкие масштабы, чем ранее считалось, и внесло намного больший вклад в поражение немецкой группы армий «Центр» на подступах к Москве в начале декабря 1941 г. Наконец, исследование является «документальным», потому что оно восстанавливает в исторической памяти во многом «забытое сражение» – в частности, массированное сентябрьское контрнаступление Красной армии в Смоленской области1
А также в примыкающих районах других областей. (Здесь и далее примеч. ред.
)
Поскольку исследование при описании боевых действий и формировании выводов во многом полагается на документальные источники, оно имеет соответствующую структуру и содержание. Таким образом, оно содержит откровенный, неприукрашенный рассказ о ходе и результате военных действий в Смоленской области, в значительной степени основанный на перефразируемых вариантах директив, приказов, сообщений и критических оценок, подготовленных штабами войск, участвовавших в боевых действиях того периода. В частности, приведены документы, подготовленные соответствующим Верховным командованием сторон (ОКВ, ОКХ и Ставкой) и штабами на уровне армии, иногда дивизии.
Поскольку точность абсолютно важна при обосновании многих заключений данного исследования, отдельный том содержит полные и точные буквальные переводы практически всех документов, перефразируемых в двух описательных томах. На них в описательных томах даются ссылки на цитаты, приводимые в соответствующем приложении, и конкретный номер документа в пределах каждого приложения. Включение этих документов критически важно по двум весьма веским причинам. Во-первых, дословные документы необходимы, чтобы подтвердить точность содержания данного исследования. Во-вторых, структура и содержание упомянутых директив, приказов, отчетов и критических оценок, равно как и используемые при этом выражения, воссоздают уникальный личный портрет командира, их подготовившего. В частности, четкость, краткость, логика и стиль этих документов либо нехватка чего-либо из перечисленного отражают интеллект, навыки и эффективность командиров (либо их отсутствие), а также менее ощутимые, но не менее важные личные качества, такие как самолюбие, жестокость и боевой дух.
Кроме того, чрезвычайно подробное содержание двух описательных томов, которые должны быть не только прочитаны, но и изучены, подчеркивает значение карт, делает их абсолютно необходимыми элементами для понимания стратегического и оперативного течения Смоленского сражения. Поэтому, используя немецкие и советские архивные карты упомянутого периода, я включил достаточное количество общих оперативных и региональных карт, чтобы дать читателям возможность следить за общим ходом боевых действий. Однако, поскольку эти карты не отражают многих тактических деталей, чтобы отразить и разъяснить содержание архивных документов (будь то перефразируемые в описании или целиком опубликованные в приложениях), я также включил сюда множество подробных ежедневных карт из официальных документов многих немецких и советских войсковых частей.
С учетом огромного количества новых архивных материалов, на которых базируется данное исследование, я выражаю особую благодарность правительству Российской Федерации, которое предоставило доступ к документам, весьма существенным для написания моей книги. Но в свете той невероятной работы, которая потребовалась для подготовки этих томов, еще важнее то, что, как и раньше, огромную поддержку мне оказала моя жена Мэри Энн. Во-первых, именно она правильно предсказала, что мои 30-дневные потуги пересмотреть и расширить краткое 100-страничное описание Смоленского сражения и сделать из него более обширное 200-страничное исследование неизбежно перерастет в намного более массивный труд. Тем не менее она заслуживает особой благодарности за свою безоговорочную моральную поддержку во время процесса, который я бы назвал шестимесячной «виртуальной осадой». Во-вторых, в дополнение к тому, что она терпела и мирилась с отшельничеством своего супруга, который бесконечными часами уединялся в своем кабинете, обложившись любимыми книгами, она вытерпела немало длинных часов, проверяя и вычитывая эти тома от имени человека (меня, естественно), чье нетерпение поскорее перейти к новым темам и задачам обычно препятствует тому, чтобы он участвовал в таких геракловых, мирских и утомительных задачах, как «простая» вычитка.
Однако в конечном счете лишь я один несу ответственность за любые ошибки, обнаруженные в этих томах, будь то фактические или переводческие.
Дэвид M. Гланц
Карлайл, Пенсильвания
Глава 1
Введение: план «Барбаросса», противоборствующие силы и приграничные сражения 22 июня – начала июля 1941 г.
План «Барбаросса»
Когда рейхсканцлер Адольф Гитлер, фюрер («вождь») германского народа, летом 1940 г. приказал начать планирование операции «Барбаросса», Германия уже почти год находилась в состоянии войны. Еще до того, как 1 сентября 1939 г. фактически началась Вторая мировая война, фюрер, осуществив дипломатический и военный натиск, воспользовался слабостями и робостью своих противников, добившись побед, которые никак не соответствовали истинной силе немецкого вермахта 1 . Проигнорировав интересы стран-победительниц Первой мировой войны, в марте 1956 г. Гитлер публично заявил об отказе от пунктов, связанных с разоружением Германии по Версальскому договору. После чего едва сформированные новые войска Германии в марте 1936 г. оккупировали Рейнскую область, в марте 1938 г. заняли Австрию, осенью 1938 г. и в марте 1939 г. расчленили Чехословакию и аннексировали литовский Мемель (Клайпеду), а 1 сентября вторглись в Польшу. И все, кроме последнего, прошло бескровно и с молчаливого одобрения Запада. К августу 1939 г. «умиротворение» Гитлера со стороны британцев и французов на Мюнхенской конференции наконец убедило советского вождя Иосифа Сталина в том, что державы Запада попросту поощряют амбиции Гитлера расширять немецкое господство на Восток. Это, в свою очередь, побудило Сталина заключить с Гитлером циничное соглашение о ненападении в августе 1939 г., так называемый Пакт о ненападении Молотова – Риббентропа, согласно секретным дополнениям которого Польша и большая часть того, что осталось от Восточной Европы, были заранее поделены между Германией и Советским Союзом. Сталин при этом получил столь желанную «буферную» зону, отделявшую СССР от потенциально враждебной ему Германии.
Как только началась Вторая мировая война, армии Гитлера уже в сентябре 1939 г. быстро захватили «причитающуюся» половину Польши, 9 апреля 1940 г. оккупировали Данию и в этот же день вторглись в Норвегию (где бои шли до 10 июня). Победив лучшие армии Запада (всего 147 дивизий), немецкие войска (137, позже 140 дивизий) с 10 мая по 22 июня 1940 г. заняли Бельгию, Нидерланды, Люксембург и основную часть Франции, попутно нанеся поражение британскому экспедиционному корпусу (9 дивизий) и вытеснив его с континента в районе Дюнкерка. Защищенная естественной водной преградой в виде Ла-Манша, а также своими хвалеными ВМС, Великобритания выдержала мощные и продолжительные воздушные удары немцев во время битвы за Англию с сентября 1940 до июня 1941 г. Но выстояла она с большим трудом. Получилась нелепая, но вместе с тем вполне характерная картина: военная неудача в битве за Англию вдохновила Гитлера предпринять крестовый поход против советского большевизма. Даже с учетом того, что поражение немцев в небе над Англией разрушило его планы вторжения на Британские острова, сорвав операцию «Морской лев», Гитлер снова проявил характерную для него дерзость. Вдохновленный беспрецедентной чередой военных успехов, он намеревался добиться честолюбивой цели, которую ясно сформулировал за многие годы до этого в своем программном труде Mein Kampf («Моя борьба») – завоевания «жизненного пространства», на которое, как он верил, немецкий народ вполне мог претендовать как в историческом, так и в расовом контексте. Завоевание Советского Союза могло дать столь необходимое жизненное пространство и в то же время помогло бы избавить мир от бича большевизма.
В военном отношении немецкое наземное вторжение и завоевание Советского Союза представляли собой задачу поистине грандиозную. Своих прежних успехов вермахт добился на относительно небольших театрах военных действий с хорошо развитой системой коммуникаций. Немецкая армия достигла этого, применив так называемую тактику блицкрига, или молниеносной войны. Она заключалась в том, что впереди основных сил войск двигались высокоподвижные и маневренные танковые и моторизованные части при поддержке плотных волн штурмовой авиации (в основе которых были пикирующие бомбардировщики Ю-87 «Штука»). Это позволило немцам быстро сокрушить крупные, но недостаточно мобильные силы Франции, Великобритании, Бельгии и Нидерландов, которые оказались совершенно не готовы противостоять такого рода тактике и чьим правительствам недоставало желания и воли дать настоящий бой и повторить бойню Первой мировой войны.
Завоевание же Гитлером Советского Союза представляло собой совсем другое дело. Хотя немецкие военные стратеги уже летом 1940 г. приступили к планированию операций вторжения в Советский Союз при различных вариантах обстановки, Директиву ОКВ № 21 «План «Барбаросса» Гитлер издал лишь 18 декабря того же года. В начале 1941 г. план вторжения и военных действий на территории СССР был полностью разработан, разбит на отдельные планы и приказы службами вермахта. В своем окончательном виде план «Барбаросса» требовал, чтобы вермахт разгромил самую крупную по численности группу войск в мире и в конечном счете продвинулся на глубину до 1750 километров по фронту, простирающемуся на более чем 1800 километров от берегов Балтики до Черного моря2
Кроме того, существовал и фронт от Финского залива Балтики до Баренцева моря – еще около 1200 км.
В дополнение к тому, что Восточный театр военных действий был больше, чем вся Западная и Центральная Европа, он к тому же был недостаточно развитый, с крайне неплотной и неэффективной дорожной сетью, столь характерной для Запада. Тем не менее Гитлер и его старшие военные планировщики всерьез предполагали, что тактика молниеносной войны приведет к быстрой победе, и строили соответствующие прогнозы.
Наиважнейшей предпосылкой в плане «Барбаросса» было то, что большевистский Советский Союз Сталина и в самом деле рухнет, как только вермахт разобьет основные силы Красной армии, развернутые в приграничных военных округах СССР, то есть когда немецкие войска достигнут берегов Западной Двины и Днепра. Сам Гитлер отметил на своей заключительной конференции по планированию 5 декабря 1940 г., что Красная армия, по всей видимости, будет сокрушена быстрее, чем французская армия в 1940 г. 2 На той же конференции Гитлер недвусмысленно заявил прежде всего о намерениях уничтожить в кампании «Барбаросса» Красную армию, а не о достижении определенных территориальных или политических целей, когда объявил:
«Основные силы [Красной] армии, дислоцированные в Западной России, должны быть уничтожены в ходе смелых операций с использованием глубоких проникновений танковыми клиньями, а отвод боеспособных частей в глубь обширных российских территорий должен быть предотвращен. Посредством быстрого преследования необходимо достичь той линии, из-за которой советские воздушные силы больше не смогут угрожать исконно немецким территориям.
Следовательно, группа армий («Центр»), наступающая в Московском направлении, должна обладать достаточной мощью, чтобы при необходимости двинуться на север со значительными силами… решение о том, вести ли наступление на Москву или к востоку от Москвы, может быть вынесено только после окончательного разгрома русских частей, захваченных в северных и южных котлах. Основная задача заключается в том, чтобы не позволить русским перейти к тыловой обороне» 3 .
В заключительной поправке к Директиве № 21, подготовленной 31 января 1941 г., немецкое Верховное командование сухопутных войск (ОКХ) детально отразило стратегические намерения Гитлера:
«3. Замысел. Главная цель ОКХ в соответствии с вышеизложенной задачей состоит в том, чтобы расколоть фронт основных сил русской армии, сосредоточенных в западной части России, быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки вражеских войск.
Южнее Припятских болот группа армий «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала Рундштедта, используя стремительный удар мощных танковых соединений из района Люблина, отрезает советские войска, находящиеся в Галиции и Западной Украине, от их коммуникаций на Днепре, захватывает, таким образом, свободу маневра для решения последующих задач во взаимодействии с войсками, действующими севернее, или же выполнения новых задач на юге России.
Севернее Припятских болот наступает группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока. Введя в бой мощные танковые соединения, она осуществляет прорыв из района Варшавы и Сувалок в направлении Смоленска; поворачивает затем танковые войска на север и уничтожает совместно с группой армий «Север», наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, советские войска, находящиеся в Прибалтике. Затем она совместно с финской армией и переброшенными из Норвегии немецкими войсками окончательно лишает противника последних оборонительных возможностей в северной части России. В результате этих операций будет обеспечена свобода маневра для выполнения последующих задач во взаимодействии с немецкими войсками, наступающими в южной части России.
В случае внезапного и полного разгрома русских сил на севере России поворот войск на север отпадает и может встать вопрос о немедленном ударе на Москву…
Только таким образом можно будет воспрепятствовать своевременному отходу боеспособных сил противника и уничтожить их западнее линии Днепр – Западная Двина» 4 .
Чтобы добиться этой победы, немецкие военные планировщики стремились отыскать способы уничтожить основные части Красной армии на передовых рубежах, то есть в западных военных округах Советского Союза, прежде чем Сталин успеет мобилизовать свои стратегические резервы. Немецкое ОКХ планировало этого добиться, организовав ряд окружений вблизи новых западных границ Советского Союза.
Чтобы разбить Красную армию, Гитлер сосредоточил на Востоке 151 немецкую дивизию (в том числе 19 танковых и 15 моторизованных дивизий), имевших в своем составе около 3350 танков, 42 тысяч орудий и минометов и 2770 самолетов 5 . Финское правительство обещало для поддержки операции «Барбаросса» выделить 14 дивизий, а румыны предложили 4 дивизии и 6 бригад, а потом еще 9 дивизий и 2 бригады 6 . Немецкое OKХ, которое командовало всеми войсками оси на Восточном ТВД, сформировало из этих сил армию «Норвегия», которая должна была действовать на севере Скандинавии, три немецкие группы армий (названные соответственно «Север», «Центр» и «Юг»), в составе которых действовали четыре мощные танковые группы, и три воздушных флота авиационной поддержки, развернутые на обширном фронте от Балтийского моря до Черного.
Согласно плану «Барбаросса» группе армий «Центр», включавшей в себя немецкие 4-ю и 9-ю армии, а также 2-ю и 3-ю танковые группы при поддержке 2-го воздушного флота, предстояло осуществить основной наступательный удар вермахта. При мощной поддержке двух танковых групп, которые должны были стремительно продвинуться в восточном направлении по флангам Белостокского выступа, войскам фельдмаршала Федора фон Бока предстояло провести первую операцию на окружение в районе Минска, затем разбить окруженные здесь соединения Красной армии, после чего продолжать наступление в восточном направлении через Смоленск к Москве. Действуя севернее, группа армий «Север» под командованием фельдмаршала фон Лееба, которая включала в себя немецкие 16-ю и 18-ю армии и 4-ю танковую группу при поддержке 1-го воздушного флота, должна была наступать из Восточной Пруссии, оккупировать Прибалтийские советские республики и в итоге захватить Ленинград. На южном крыле германского фронта группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала фон Рундштедта должна была наступать на восток из Южной Польши и северо-восток – из Северной Румынии, чтобы захватить Киев и оккупировать Советскую Украину. Эта группа армий состояла из немецких 6-й и 17-й армий и 1-й танковой группы, действующих севернее Карпат, а также объединенной немецко-румынской группировки, сформированной из немецкой 11-й армии и румынских 3-й и 4-й армий, действующих южнее Карпат. 4-й воздушный флот должен был обеспечить авиационную поддержку на юге. Таким образом, основные немецкие наступательные силы были сосредоточены к северу от Припятских болот, почти непроходимой заболоченной области, которая разделила театр боевых действий на четко различимые северную и южную половины.
План «Барбаросса» был нацелен на то, чтобы воспользоваться нехваткой у Советского Союза адекватных коммуникаций, то есть автомобильных и железных дорог, проходящих с севера на юг, а также в глубь территории. При этом основной расчет делался на танковые силы, которые могли, стремительно проходя пересеченную местность, окружить и разбить части Красной армии в приграничных районах, прежде чем те успеют перегруппироваться или уйти на восток, избежав окружения и разгрома. Таким образом, военные планировщики полагали, что три немецкие группы армий смогут уничтожить основные силы Красной армии на их передовых оборонительных позициях, прежде чем русские успеют перебросить сюда свежие подкрепления. Однако подобная убежденность была неверной, поскольку немецкая разведка недооценила число соединений Красной армии, сосредоточенных в приграничных районах, и оказалась абсолютно не осведомлена о советских мобилизационных возможностях, в частности о количестве резервных армий, которые Советскому Союзу удалось сформировать и выдвинуть на новые оборонительные позиции к востоку от Западной Двины и Днепра.
Согласно плану «Барбаросса», как только вермахт одержит победу в приграничных сражениях и разобьет силы Красной армии в передовых районах, три немецкие группы армий смогут относительно беспрепятственно двигаться в северо-восточном и восточном направлениях. При этом группа армий «Север» направится к Ленинграду, группа армий «Центр» совершит бросок на Москву, а группа армий «Юг» устремится к Киеву. Таким образом, с самого начала план «Барбаросса» предполагал, что три группы армий окажутся в состоянии практически одновременно захватить все три наиболее важные цели Гитлера, при этом не распылив понапрасну военную мощь вермахта.
Стратегическая установка плана предусматривала разгром Красной армии в течение нескольких недель, выход до наступления зимы на линию Астрахань–Архангельск. Особое место в нем отводилось захвату Москвы, с которым связывался выигрыш всей войны.Но до сих пор мало известно, что еще до нападения на СССР, 11 июня 1941 года гитлеровское руководство разработало систему мероприятий под названием «Подготовка к периоду после осуществления плана «Барбаросса», где разгром СССР считался уже почти решенным делом. Что же он предусматривал?
После захвата советских территорий фашистские войска нацеливались уже на наступление на Иран, Ирак, Египет, а через Афганистан – на Индию. Предполагалось также захватить Гибралтар, отсечь Англию от сырьевых источников, после чего высадиться на Британских островах. В союзе с Японией гитлеровцы намеревались захватить американский континент путем вторжения морских десантов с баз в Исландии, Гренландии, на Азорских островах, а также с Алеутских и Гавайских островов.
Как видно, в 1941 году планы завоевания мира у агрессора приобретали конкретные очертания и вряд ли их можно было назвать недостижимыми при условии разгрома Германией Советского Союза.
Не случайно правительства Англии и США, почувствовав реальную опасность, нависшую над их странами, выступали за оказание помощи СССР в войне, рассматривая войну советского народа как борьбу за оборону в том числе и их государств.
План «Барбаросса» с самого начала предусматривал удар такой силы, чтобы ошеломить и уничтожить войска Красной армии в западной части страны и стремительным продвижением в глубь территории в короткий срок победоносно завершить войну. Для этого Гитлер выделил подавляющую часть своих сухопутных сил.
Им противостояли группировка Красной армии из 2,7 млн человек, до 1,5 тыс. танков (Т-34 и КВ), 1,5 тыс. самолетов новых типов и значительное число устаревших танков и самолетов. Таким образом, противник имел явное превосходство в силах, а на направлениях главных ударов гитлеровцы создали 3–4-кратное превосходство. Огромный выигрыш дали и внезапность нападения, и наличие боевого опыта ведения современной войны и высокого наступательного от побед в Европе духа солдат.
Первый удар врага приняли на себя солдаты кадровой армии. Именно они своими жизнями прикрыли страну в те дни агрессии. Но в результате стратегических ошибок политического и военного руководства страны не удалось организовать надлежащего отпора в начале войны. В первые же часы гитлеровцы сломили сопротивление советских войск на подавляющей части границы и при поддержке авиации вклинились на территорию СССР.
Война застала советскую авиацию в стадии перевооружения. В частях до 80 процентов всех самолетов было устаревших конструкций, а поступившие с заводов в апреле-мае 1941 года самолеты новых образцов еще не были освоены летным составом. В результате внезапных ударов по 66 советским приграничным аэропортам, на которых базировались до 70 процентов всех авиаполков Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов, противник в первый же день войны на земле и в воздухе вывел из строя 1200 самолетов.
|
Между тем с самого начала войны против СССР гитлеровские генералы понимали, что в целом войска противника обороняются куда более упорно, чем на Западе. Героическое сопротивление было оказано в Бресте, Лиепае, под Перемышлем, в районе Луцк–Броды–Ровно, где был организован первый танковый контрудар.
Уже 22 июня была объявлена мобилизация, 23-го – создана Ставка Главного (Верховного) командования, 30-го – Государственный комитет обороны. Оба этих органа возглавил И. В. Сталин. Развертывалась перестройка управления войсками, военной промышленностью, началась эвакуация предприятий и населения.
В это время важную роль сыграла провинция России и других союзных республик. На провинцию легла основная тяжесть войны. Центр обеспечивал руководство борьбой, а регионы поставляли действующей армии продукты и ресурсы, военную технику и боеприпасы, готовили войска для фронта. В действующую армию из регионов ушли много руководящих партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников. Своевременно привел в полную боевую готовность авиацию командующий ВВС Ленинградского военного округа генерал-майор А. А. Новиков (в 1942–1946 гг. командующий ВВС Красной армии). Первым в ночь на 22 июня поднял в Севастополе боевую тревогу крейсер «Красный Кавказ», которым командовал капитан 2-го ранга А. М. Гущин (впоследствии контр-адмирал).
Из столицы в Куйбышев переехали правительство СССР и дипломатический корпус. В восточные регионы страны эвакуированы театры и вузы, Академия наук, коллекции музеев, архивы и собрания библиотек, другие историко-культурные ценности. В 1941 году была организована невиданная в истории эвакуация до 2,5 тыс. крупных промышленных предприятий в глубь территории России и других союзных республик. Здесь они в короткий срок развертывали производство оружия и военной техники.
В результате увеличились потери фашистских войск. С июня до середины ноября 1941 года на советско-германском фронте противник потерял свыше 750 тыс. убитыми, ранеными, пропавшими без вести. Потери авиации составили 5,2 тыс. самолетов. С каждой неделей сопротивление агрессору нарастало. Если в первые недели войны темпы продвижения противника составляли в среднем 20–30 км в сутки, то в октябре-ноябре во время наступления на Москву он продвигался 2,5–3 км в сутки. Но и это было чрезвычайно непросто.
В начале октября 1941 года противнику удалось прорвать фронт на главном московском направлении. Крупных успехов ему удалось добиться под Вязьмой, где в окружение попали части трех советских фронтов. В октябре были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. Германские газеты печатали карты Московской области, где отмечалось продвижение вермахта все ближе и ближе к столице СССР. Однако несмотря на превосходство в личном составе, авиации, танках, противник так и не смог преодолеть героическое сопротивление Красной армии.
Лишь в середине ноября, подтянув новые резервы, вермахт смог возобновить наступление. Однако защитники столицы и ее последнего южного форпоста – Тулы смогли остановить противника. Сила их сопротивления все более возрастала. А здесь еще ударили морозы, к которым враг не был готов.
Несмотря на потерю обширных территорий, падение промышленного производства, выпуск танков, самолетов, орудий во втором полугодии 1941 года возрастал. Не менее важно было вспомнить и людские потери. Дать пополнение позволили не только мобилизация и добровольцы-ополченцы, но и сведения разведчика Рихарда Зорге о том, что Япония в ближайшее время не собирается нападать на СССР. И в решающий момент к Москве удалось подтянуть свежие сибирские дивизии. Советские войска не только остановили наступление, но и предприняли контрнаступление. В результате контрнаступления под Москвой и общего наступления на других фронтах противник был отброшен на 150–400 км и понес колоссальные потери.
Победа под Москвой имела огромное значение, так как явилась первым крупнейшим поражением фашистов во Второй мировой войне. Кроме военного поражение врага имело большое морально-политическое и международное значение. Советский народ убедился в возможности полного разгрома агрессора. В реальную силу Советского Союза поверили его союзники. В период Московской битвы оформилась антигитлеровская коалиция. А вот у Германии и ее сателлитов впервые поколебалась вера в благоприятный для них исход войны.
Избранное в Рунете
Вячеслав Дашичев
Дашичев Вячеслав Иванович – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН; профессор берлинского Свободного (1991), Мюнхенского (1992) и Маннгеймского университетов (1996).
За полтора месяца до нападения на Советский Союз весь мир был потрясен сенсацией: 10 мая в Англии, вблизи фамильного замка лорда Гамильтона, приземлился на парашюте помощник Гитлера по партии Рудольф Гесс. Предприняло ли нацистское руководство последнюю отчаянную попытку договориться перед походом на Восток о перемирии с Лондоном, чтобы обезопасить свой тыл? Или даже вовлечь Англию в борьбу против ненавистного большевизма? О чем шла речь на секретных переговорах Гесса с англичанами? На протяжении всей войны и после нее вплоть до наших дней это оставалось и все еще остается не разгаданной до конца тайной.
На рассвете 22 июня 1941 г. германские войска обрушили удар колоссальной силы против Советского Союза. После захвата почти всех континентальных стран Западной Европы и их ресурсов гитлеровское командование приступило к главному и решающему этапу борьбы за установление полного господства нацистской Германии в Европе.
Военная кампания на Западе в мае - июне 1940 г. принесла Германии не только лавры быстрой победы. Она ознаменовалась и первой серьезной неудачей вермахта, имевшей далеко идущие политические и стратегические последствия: гитлеровские стратеги оказались не в состоянии вывести из войны Англию и создать в преддверии нападения на Советский Союз все условия для решения центральной проблемы своей стратегии - устранения опасности ведения войны на два фронта, которая десятилетиями, как кошмар, довлела над умами германских милитаристов.
Поэтому после разгрома Франции перед руководством Германии во весь рост встала дилемма: сосредоточить ли еще до нападения на СССР очередные усилия на выводе из войны Англии, чтобы до конца избавиться от всякой опасности с тыла в предстоявшем походе на Восток, или, оставив пока в стороне Великобританию, обрушить новый удар на Советский Союз. Для решения этой проблемы ему пришлось взвесить целый ряд
политических, экономических и военно-стратегических факторов. В первую очередь надо было установить:
В состоянии ли вермахт осуществить быстрый военный разгром Англии, и если нет, то каковы возможности для сокрушения Советского Союза в стиле блицкрига?
Какую позицию займут в этом случае Соединенные Штаты и как скоро они смогут развернуть свой военный потенциал и активно вмешаться в войну на европейском континенте?
Каковы возможности и условия использования «японского фактора» для совместной борьбы против Советского Союза и отвлечения сил Англии и США от европейского континента?
На каких военных союзников в Европе можно рассчитывать для войны против СССР?
Поиски выхода из создавшегося стратегического положения породили определенные колебания в военном руководстве вермахта. Первое время оно стало серьезно готовиться к десантной операции против Англии. Но с самого начала эта операция внушала германскому генералитету большие сомнения. Его желанию самым надежным способом - вторжением - нейтрализовать Британские острова противостояли мрачные раздумья. Больше всего нацистские стратеги, имея в перспективе поход на Восток, опасались из-за слабости Германии на море понести крупные материальные и людские потери, а также утратить стратегическую инициативу в результате возможных осложнений и неудач при осуществлении высадки.
За каких-нибудь полтора месяца, остававшихся до нападения на Советский Союз, весь мир был потрясен сенсацией: 10 мая в Англии, вблизи фамильного замка лорда Гамильтона, приземлился на парашюте помощник Гитлера по партии Рудольф Гесс. Что бы это могло означать? Предприняло ли нацистское руководство последнюю отчаянную попытку договориться перед походом на Восток о перемирии с Лондоном, чтобы обезопасить свой тыл? Или даже вовлечь Англию в борьбу против ненавистного большевизма? Совершил ли Гесс полет в Англию на собственный страх и риск или с ведома и по поручению Гитлера? О чем шла речь на секретных переговорах Гесса с англичанами? Какие результаты они принесли? На протяжении всей войны и после нее вплоть до наших дней это оставалось и все еще остается до конца и до деталей неразгаданной тайной. Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными преступниками, среди которых был и Гесс, ничего реального не дал в смысле выяснения мотивов и целей миссии Гесса и отношения к ней правительства Черчилля.
Летом 1990 г. волею судьбы я оказался непосредственно вовлеченным в хитросплетения полета Гесса. Мне пришлось соприкоснуться - на этот раз совершенно неожиданным образом - с одной из наиболее интригующих и до сего времени неразгаданных тайн Второй мировой войны. Это было в Кёльне, где я участвовал в советско-западногерманском семинаре. Мне позвонили по телефону. Голос в трубке сказал: «С вами говорит сын Рудольфа Гесса - Вольф Рюдигер Гесс. Мне очень хотелось бы повидаться с Вами и передать Вам информацию, которая может пролить новый свет на полет моего отца в Англию 10 мая 1941 года. Я готов приехать в Кёльн вместе с адвокатом моего отца на Нюрнбергском процессе Альфредом Зайдлем в удобное для вас время».
Когда я услышал эти слова, у меня дух перехватило. Ведь сколько бумаги было исписано историками и журналистами о загадочном полете Гесса! Сколько версий с ним связано! А ясности в этом вопросе так и не удалось достигнуть. Я и сам занимался в прошлом этой таинственной историей, но не пришел к какому-либо определенному выводу из-за отсутствия убедительных документальных данных и свидетельств. Неужели Вольф Гесс, наконец, приподнимет завесу над тайной полувековой давности?
На следующий день состоялась наша встреча. Г-н В.Г есс приехал вместе с Зайдлем в Кёльн из Мюнхена. Передо мной предстал мужчина средних лет, очень высокого роста, с крупными чертами лица и улыбающимися глазами. В отличие от отца Гесс-младший занялся созидательной деятельностью инженера-строителя. После кратких приветствий он сразу перешел к делу. По его мнению, в исторической литературе и публицистике сложилась неверная трактовка «миссии Гесса» в Англию в 1941 г. Она обычно изображается как попытка заключить с англичанами мир, чтобы обеспечить тыл Г ермании для нападения на Советский Союз и избежать войны на два фронта. На самом же деле «миссия Гесса», мол, не носила антисоветского характера, а преследовала далеко идущие миротворческие цели - покончить вообще с войной и заключить всеобщий мир.
Правда, выведать у отца истинную подоплеку его загадочного полета оказалось для Гесса-младшего не так просто. На всех его свиданиях с отцом в тюрьме Шпандау всегда присутствовали представители охраны четырех держав, фиксировавшие каждое слово их разговора. У Вольфа Гесса сложилось впечатление, что отец чего-то боялся и всячески избегал затрагивать щекотливую тему. Тогда Вольфу Гессу пришла в голову мысль тайно передать отцу записку с обращенными к нему вопросами. Копию этой записки он передал мне. Записка была написана в Грефельфинге 27 марта 1984 г. и незаметно для охраны передана Гессу в тюремную камеру французским тюремным священником Шарлем Табелем, а затем возвращена им Гессу-младшему с пометками его отца. Вот ее содержание:
«В связи с моей книгой, известной тебе под названием "Мой отец Рудольф Гесс", и в связи с твоей идеей о заявлении для прессы к 90-летию имеют значение следующие два вопроса:
1. Можно ли исходить из того, что если бы твой полет мира в Великобританию 10 мая 1941 г. увенчался бы успехом в принципе, т.е. если бы Черчилль объявил, например, о своей готовности к созыву мировой мирной конференции, то немецкое нападение на Советский Союз 22 июня 1941 г. не состоялось бы и тем самым была бы прекращена Вторая мировая война со всеми ее кровопролитиями и опустошениями?
2. Можно ли, по меньшей мере, исходить из того, что после успешного возвращения из Великобритании ты использовал бы в полную меру вес твоего в то время очень большого престижа для осуществления политики, обозначенной в пункте 1? Пожалуйста, дай мне на этом листе твой комментарий».
На первый вопрос Р.Гесс ответил: «Само собой разумеется. Наверняка». На второй - аналогично: «Наверняка. Само собой разумеется. Большего об этом сказать не могу». В конце листа Гесс приписал: «Все содержится уже в твоих вопросах». Эти пометки Гесс сделал в присутствии священника Габеля.
По мнению Гесса-младшего, эта записка подтверждала версию, согласно которой миссия его отца состояла в том, чтобы покончить со Второй мировой войной путем созыва мирной конференции, но английское правительство не прореагировало на предложения Гесса. Но, чтобы не выглядеть в глазах общественности противницей установления мира в Европе в канун нападения Германии на Советский Союз, английская сторона, по убеждению В.Гесса, до сего времени тщательно скрывает документы, связанные с переговорами его отца в Англии в мае 1941 г. и в последующее время. В.Г есс видел именно в этом причину того, что доступ к документам, проливающим свет на миссию Р.Гесса, будет открыт лишь после 2017 г. Больше того, он считал, что англичане, опасаясь в последние годы освобождения Гесса из тюрьмы и обнародования им нежелательных для английской политики фактов, постарались убрать «узника Шпандау», инсценировав его самоубийство в августе 1987 г. Об этом В.Гесс написал в своей книге «Убийство Рудольфа Гесса». Он считал, что его отец не повесился сам на шнуре от настольной лампы, как гласит официальная версия, а был задушен. Одни таинственные загадки Р.Г есса наслоились на другие!
Откровенно говоря, записка В.Г есса меня не убедила, особенно если учесть весьма тенденциозно (если не сказать большего) сформулированные вопросы. Можно ли поверить, что Г есс преследовал своим полетом в Англию миротворческие цели? Действительно ли он стремился в последний момент положить конец дальнейшему расширению войны и ее превращению в мировую? Хотел ли он предотвратить нападение Гитлера на Советский Союз? Насколько реален был созыв в то время мирной конференции всех держав, включая Советский Союз?
Чтобы ответить на эти вопросы, вспомним, в какой обстановке в мае 1941 г. был совершен полет Гесса в Англию. Сжатая до предела пружина военной машины Германии распрямилась лишь на одну треть. Но и этого было достаточно, чтобы разгромить Польшу и Францию, захватить Бельгию, Голландию, Люксембург, Норвегию, балканские государства и установить германское господство фактически над всей континентальной Европой, исключая Советский Союз. К 10 мая 1941 г., когда Гесс тайно вылетел в Англию на своем «Мессершмитте 110Е» и выбросился из него на парашюте недалеко от Глазго, немецкий вермахт уже изготовился для очередного прыжка - на этот раз для осуществления вожделенных замыслов Гитлера: покорения России и народов на Востоке, ради чего так тщательно готовились немецкий тыл (устранение Франции) и стратегические фланги (подчинение Балкан и Скандинавии). Гитлер и его окружение были твердо уверены в быстрой победе. В мае 1941 г. фюрер сравнил Россию с «колоссом на глиняных ногах». После репрессий Сталина против цвета военных кадров страны, после советско-финской воины, выявившей низкую боеспособность Красной Армии, у него были для подобных сравнений веские основания. Успешный блицпоход против Советского Союза принес бы Германии неограниченное господство над Европой. Мог ли Гитлер отказаться от прежних завоеваний и от заманчивых перспектив плана «Барбаросса»?
Думаю, что Гитлер не был бы Гитлером, если бы пошел на это. Даже накануне нападения на Польшу и развязывания Второй мировой войны он в одном из выступлений перед генералами выразил опасение, как бы «какая-нибудь каналья» в последний момент не выступила с мирными предложениями и не помешала бы ему бросить вермахт в бой. А тут, после головокружительных военных успехов, в роли такой «каналья» выступает сам Гесс, заместитель фюрера по партии! В мае 1941 г. Гитлер в лучшем случае мог согласиться на сделку с Англией, если бы она признала господствующее положение Германии в Европе и полностью высвободила ее тыл для войны против СССР. Вольф Гесс говорил мне, что накануне полета его отец 4 часа разговаривал с Гитлером. Однако о содержании беседы ничего не известно. Но надо полагать, что свой полет Гесс совершил с ведома Гитлера, хотя 13 мая последний обвинил своего заместителя в измене и бегстве перед самым решающим моментом в истории Германской империи - нападением на Советский Союз. Анализируя логику поведения и замыслы ставки Гитлера, можно прийти к выводу, что ни объективно, ни субъективно тогдашнее руководство Германии не пошло бы по своей воле на созыв мирной конференции и прекращение войны.
Ну а что можно сказать о позиции английского правительства, лично Черчилля? В Лондоне прекрасно сознавали, что с Германией Гитлера у Англии не может быть более никаких сделок. Об этом достаточно убедительно говорил печальный пример Мюнхенского соглашения. Черчилль был настроен вести войну во имя сокрушения гитлеровской тирании бескомпромиссно, до конца, и, если вынудит обстановка, даже из колоний. Он воспринимал Гитлера и его тоталитарный режим как смертельную опасность для Англии и не сомневался в том, что в противостоянии нацистской экспансии рано или поздно возникнет великая коалиция, которая объединит Великобританию, США, Советский Союз и другие государства. В мае 1941 г. Черчилль уже располагал точными данными о готовившемся ударе вермахта по Советскому Союзу и даже сигнализировал об этом Сталину. Дать Гитлеру свободу рук на Востоке, чтобы оказаться затем в положении его очередной жертвы? Черчилль пойти на это не мог. Это было бы верхом государственной глупости. Следовательно, и в Англии миссия Гесса была обречена на провал.
Остается предполагать, что даже если Р.Гесс действительно руководствовался миротворческими устремлениями, то он совершенно неверно оценил обстановку, сложившуюся к маю 1941 г. Совершив свой полет, он оказался в положении человека, далекого от реальности. Возможно также, что он, будучи приверженцем геополитики и зная ее законы, хорошо понимал, что дальнейшее развитие событий войны неизбежно приведет к созданию мировой антигерманской коалиции, и Германия вынуждена будет вести длительную борьбу на два фронта против превосходящих сил, что, как показал опыт Первой мировой войны, окончится для нее тотальным поражением. В этом свете его полет в Англию можно рассматривать как шаг отчаяния.
Но это лишь возможные варианты. Разгадка тайны Г есса еще впереди, когда историки получат доступ к документам, раскрывающим содержание его переговоров в Англии.
Но все же можно считать, что главной целью миссии Гесса было нейтрализовать Англию на период войны против Советского Союза. Об этом указывает в книге «Мирная ловушка Черчилля» официальный историограф английского МИД Аллен Мартин. Он писал, что Черчилль, желая ввести немцев в заблуждение, дал им понять, что он якобы заинтересован в переговорах с германскими представителями и в примирении с Германией. На самом деле он, как дальновидный политик, отлично сознавал, что Гитлеру нельзя предоставлять свободный тыл на Западе, чтобы позволить без труда разгромить Советский Союз. Он нисколько не сомневался, что после выполнения этой задачи Гитлер повернет против Англии. В этом смысле Черчилль был намного мудрее и дальновиднее Сталина, развязавшего Германии пактом 1939 г. руки для войны на Западе и не отдававшего себе при этом отчета в том, чем же это может обернуться в дальнейшем для Советского Союза.
Независимо от активно проводившегося по многим каналам мирного зондажа для поисков возможных соглашений с Англией германское руководство приняло в середине 1940 г. твердое решение о нападении на Советский Союз. «Если Россия будет разгромлена, - говорил Гитлер на совещания в ставке 31 июля 1940 г., - Англия потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия. Вывод: в соответствии с этим рассуждением Россия должна быть ликвидирована» . Нападение на СССР, по расчетам нацистских стратегов, сулило успех только в том случае, если бы удалось молниеносно разгромить Красную Армию еще до того, как Англия, а также, как можно было предполагать, США развернут широкие действия против Германии.
Поэтому оценка возможной линии стратегического поведения англосаксонских держав приобретала для руководства вермахта особый смысл. Оно не могло не заметить, как на протяжении второй половины 1940 и первой половины 1941 г. Соединенные Штаты в ускоряющемся темпе совершали эволюцию от дружественного по отношению к Англии нейтралитета к позиции ее «невоюющего союзника». В августе 1940 г. в Лондоне состоялись «предварительные» англо-американские штабные переговоры, в сентябре - была достигнута договоренность о передаче Англии 50 американских эсминцев. После переизбрания президента Рузвельта в ноябре 1940 г. на третий срок американское правительство, преодолевая сопротивление изоляционистов внутри страны, стало открыто проводить внешнюю политику под девизом: «Спасем Америку, помогая Великобритании».
Важным шагом на пути формирования англо-американского союза явилось принятие 11 марта 1941 г. конгрессом США закона о лендлизе. Он давал президенту неограниченные полномочия в предоставлении военной и прочей помощи странам, защита которых считалась «жизненно важной» для безопасности США. Выступление Рузвельта 17 марта по случаю вступления в силу этого закона было расценено командованием вермахта как по существу объявление войны Германии .
В принятом 27 марта 1941 г. англо-американском соглашении были заложены основы совместной глобальной стратегии США и Англии в войне против Германии и Японии . Главным противником была признана Германия и соответственно решающим театром войны - Европа и Атлантика. После разгрома Германии основные усилия предполагалось направить против Японии. Общие стратегические установки предусматривали оборону Британских островов как главной базы для развертывания в будущем военных действий против Германии, усиление блокады и воздушных налетов на Германию, захват плацдармов в бассейне Средиземного моря для осуществления десантных операций на юге Европы, обеспечение американским флотом морских коммуникаций в Атлантике, перенесение главных усилий английского флота на Средиземное море и пр. На переговорах был также решен вопрос о создании англо-американских органов высшего стратегического руководства.
Характерно, что в совместных военных планах США и Англии первой половины 1941 г. Советскому Союзу не отводилось никакой роли, хотя государственный департамент еще в январе 1941 г. получил первые данные о готовившемся походе вермахта на Восток, а в последующем эти данные были значительно умножены . Такая позиция США и Англии объяснялась не только инерцией их антисоветской политики, но и очень низкой оценкой с их стороны военной мощи Советского Союза. 14 июня Объединенный разведывательный комитет сделал вывод, что Германии потребуется самое большее шесть недель, чтобы взять Москву . В докладе военного министра США Стимсона, представленном 23 июня Рузвельту, говорилось, что Германия сокрушит Советский Союз «по меньшей мере за один месяц, а вероятнее всего за три месяца» и поэтому в войне англосаксонских держав против Германии и Японии Россия будет лишь временным союзником, как Польша в 1939 г. или Франция в 1940 г.
По некоторым открытым акциям администрации Рузвельта нацистское военно-политическое руководство могло судить о медленном, но неуклонном вползании США в войну. Но развертывание их вооруженных сил проводилось медленными темпами и к осени 1941 г., имея 40 дивизий низкой боеспособности, они все еще были не в состоянии активно участвовать в военных действиях на европейском континенте . Неуязвимость США позволяла им до поры до времени не торопиться со вступлением в войну, извлекая большие выгоды из своего положения «третьего радующегося».
Как же оценивало «фактор США» в преддверии нападения на Советский Союз германское руководство? Оно бесспорно учитывало очевидную возможность столкновения с Соединенными Штатами, однако полагало, что это произойдет не ранее 1942 г. Немецкий военный атташе в Вашингтоне генерал Беттихер доносил 11 марта 1941 г., что США лишь в 1942 г. достигнут полной готовности к войне . В сообщении поверенного Германии в США от 16 мая говорилось: «Для Америки важно выиграть время, по возможности до 1945 г. Здесь имеется стремление оттянуть решение по крайней мере до 1942 г., когда военная промышленность будет полностью поставлена на военные рельсы» . Этого мнения придерживался и Гитлер. 30 марта 1941 г. на совещании в ставке он заявил, что максимального уровня производства США достигнут только через четыре года . Такой срок нацистские стратеги считали вполне достаточным, чтобы не только сокрушить Советский Союз, но и подготовиться к глобальной схватке с англосаксами .
Что касается Англии, то она, по оценке германского командования, не могла быть на ближайшее время после нападения на СССР сколько-нибудь существенной помехой для Германии. К середине 1941 г. на территории английской метрополии находилось около 37 дивизий . Этих сил было недостаточно для развертывания крупных военных операций на европейском континенте летом 1941 г. Тем более, что Британия была связана своими имперскими интересами на Средиземном море, Ближнем Востоке и в других регионах. Однако в перспективе, и весьма недалекой, Англия была способна стать большой угрозой для стратегических позиций Германии в Западной и Южной Европе. Уже в 1940 и 1941 гг. она превзошла Германию или не уступала ей по производству самолетов, автомобилей, танков, самоходных орудий и некоторых других видов военной техники . В 1941 г. английская промышленность выпустила 20 100 самолетов, немецкая - 11 030, танков соответственно 4855 и 5200 . Кроме того, с марта по декабрь 1941 г. Англия получила из США по ленд-лизу 2400 самолетов . У нее имелись большие возможности для наращивания своих вооруженных сил, в том числе сухопутных войск. Это ставило германское руководство перед необходимостью провести военную кампанию против Советского Союза в минимальные сроки.
В таких условиях чрезвычайно важное значение для Германии приобретала координация стратегических действий с ее союзниками - Японией и Италией. Это было главной целью заключенного 27 сентября 1940 г. Тройственного пакта . Германская дипломатия предпринимала энергичные усилия, чтобы втянуть Японию в активные действия в Юго-Восточной Азии и создать в ее лице противовес Англии и США. Кроме того, нацистское руководство рассчитывало получить от нее поддержку в войне против Советского Союза, в том числе в форме вооруженного выступления на Дальнем Востоке. 17 декабря 1940 г. Гитлер приказал разработать директиву верховного главнокомандования (ОКБ) относительно военного сотрудничества с Японией. В качестве «цели, к которой стремится Германия», он требовал предусмотреть в ней «по возможности скорейшее вовлечение Японии в активные действия на Дальнем Востоке». «Чем скорее Япония выступит, - говорил он, - тем более благоприятная военная обстановка возникнет для нее. Она должна овладеть Сингапуром и всеми источниками сырья, в которых нуждается для продолжения войны, особенно если в нее вступит Америка» . Эти соображения легли в основу директивы ОКВ № 24 от 5 марта 1941 г. В ней особо подчеркивалось, что операция «Барбаросса» создаст благоприятные политические и военные условия для экспансии Японии в Юго-Восточной Азии. На переговорах с министром иностранных дел Японии Мацуокой в Берлине в марте 1941 г. Гитлер уговаривал японцев ударить по позициям Англии. «Редко в истории, - говорил он, - можно было бы подвергаться меньшему риску, чем сейчас, когда в Европе свирепствует война, Англия связана там, Америка только начинает вооружаться, Япония является сильнейшей державой в восточноазиатском пространстве, а Россия не может действовать, так как перед ее западными границами стоят 150 немецких дивизий. Такая возможность больше не повторится, она уникальна в истории» .
Гитлер заверял Мацуоку в том, что если Россия станет угрожать Японии в случае продвижения последней в Юго-Восточной Азии, он не станет ни секунды медлить и нападет на нее. Тут же он добавил, что не верит в подобные действия со стороны России . Аналогичные гарантии Гитлер давал Мацуоке против Соединенных Штатов . В конфиденциальных беседах с японскими представителями руководители Третьей империи называли и желательный срок вступления Японии в войну против Англии - май 1941 г., на который первоначально было назначено нападение на Советский Союз . По мере приближения начала операции «Барбаросса» в планах германского руководства все большее место стали занимать расчеты на привлечение Японии к непосредственному участию в войне против Советского Союза, чтобы вынудить его вести борьбу на два фронта. 5 июня японский посол в Берлине Осима сообщил в Токио о своей беседе с главой Германии: «Гитлер сказал, что он давно вынашивал мечту ликвидировать коммунистический Советский Союз и до сегодняшнего дня еще не оставил ее... Какую позицию займет Япония в германо-советской войне, целиком зависит от наших собственных желаний. Следовательно, для Японии оставляется открытой возможность вступить в войну лишь позже, после объявления Германией войны Советскому Союзу, если Япония захочет выступить на стороне Германии. Из его рассуждений явствовало, что Японию нельзя освободить от обязательств, вытекающих из союза. Он интересовался положением Владивостока, мощью советских подводных лодок и территориями, которые заняла Япония во время сибирского конфликта. Отсюда я пришел к выводу, что для него желательно японское участие» .
Некоторые круги Японии были увлечены заманчивой перспективой похода на Россию, разрисованной Гитлером. Весьма одобрительно относился к подобной идее Мацуока. Он призывал императора Хирохито отменить начавшуюся с 16 апреля подготовку японского наступления в южном направлении и сначала напасть на СССР, чтобы добиться «генерального решения русской проблемы» . Однако это мнение не разделяли наиболее влиятельные круги Японии, заинтересованные прежде всего в южной экспансии и учитывавшие опыт Хасана и Халхин-Гола. Они с пониманием относились к предложениям их немецких союзников захватить Сингапур.
У германского руководства существовали определенные надежды, что быстрый разгром Советского Союза наряду с активным выступлением Японии на стороне Германии настолько изменят расстановку сил на мировой арене в пользу Тройственного пакта, что это вынудит Соединенные Штаты остаться в стороне от войны .
В отчете о беседе с Риббентропом 4 июня Осима писал: «Относительно американской позиции в случае возникновения германо-советской войны здесь придерживаются взгляда, что Америка по рукам будет связана помощью Англии и в настоящее время не может оказать эффективной поддержки Советскому Союзу. Существует далее уверенность, что сокрушительная победа Германии над Советским Союзом может иметь своим следствием то, что Америка откажется вступить в войну на стороне Англии» .
Стремления германской дипломатии втянуть Японию в войну против СССР не увенчались успехом. Японские правящие круги предпочитали не обострять отношений с Советским Союзом, чтобы иметь возможность развивать экспансию в сторону южных морей . С этой целью 13 апреля 1941 г. они пошли на заключение с СССР пакта о нейтралитете, рассчитывая отказаться от него, как только это станет выгодным для Японии . Руководители Германии особенно не возражали против подобного шага Японии, так как пребывали в твердой уверенности, что им удастся одним, без японского участия быстро покончить с Советским Союзом. Главное, чего они желали от Японии, - это нападение на Сингапур, чтобы отвлечь внимание Англии и США от Европы.
Гораздо большую заинтересованность германское руководство проявило к привлечению европейских стран к войне против Советского Союза. В первую очередь это касалось Румынии, Финляндии, Венгрии и Болгарии, расположенных близ советских границ. Нацистская дипломатия проявила большие усилия, чтобы втянуть эти страны в Тройственный пакт. И она добилась здесь крупных успехов. Кроме того, Германия искала сближения с Турцией на антисоветской почве. 18 июня 1941 г. был подписан германо-турецкий пакт о дружбе и ненападении. Гитлер стремился придать войне против СССР характер «крестового похода» и полностью подчинить ресурсы и политику союзников достижению своих стратегических целей. «Операции, - говорил он Антонеску 12 июня, - которые будут вестись в пространстве от Северного Ледовитого океана до Черного моря, нуждаются в центральном едином руководстве. Естественно, оно будет в наших руках. Мы должны избежать ошибок прежних коалиционных войн» .
В Западной Европе германское руководство не видело на ближайшее время серьезной угрозы для себя. Франция - этот традиционный геополитический и военный противовес Германии на европейской арене - была повержена, расчленена и бессильна что-либо принять, как отмечал Гитлер 9 января 1941 г. На случай возможных осложнений на Западе предусматривалось ввести в действие план «Аттила» - оккупацию вишистской части Франции. Скандинавия и Балканы находились под пятой «оси». Испания и Турция занимали позиции дружественного по отношению к Германии нейтралитета.
В целом руководство Германии оценивало глобальную и европейскую политическую ситуацию как исключительно выгодную для войны против СССР. «Ныне, - говорил Гитлер на совещании генералитета 30 марта 1941 г. - существует возможность разбить Россию, имея свободный тыл. Эта возможность так скоро не появится вновь. Я был бы преступником перед немецким народом, если бы не воспользовался этим» . Подобные политико-стратегические калькуляции, зыбкие и авантюристичные в своей основе, исходили из главной порочной предпосылки - неверной оценки политической прочности и военно-экономического могущества Советского Союза и стойкости русского народа. Высшие инстанции политического и военного аппарата Германии в превратном свете представляли себе боеспособность Красной Армии. Выступая на совещании руководителей вермахта 9 января 1941 г., Гитлер говорил, что «русские вооруженные силы - глиняный колосс без головы» . Близки к этому мнению были и другие руководители вермахта . Главнокомандующий сухопутных войск Браухич, например, так рисовал перед генералами на совещании 30 апреля 1941 г. картину военных действий на Восточном фронте: «Предположительно крупные приграничные сражения, продолжительностью до 4 недель. В дальнейшем следует ожидать лишь незначительного сопротивления» .
Предвзятость оказала роковое воздействие на стратегию Гитлера, лишив ее возможности трезво учитывать совокупность основных факторов и условий ведения войны, взятых такими, какими они были в действительности. В Германии, как правильно подметил один германский историк, господствовали «дурные приемы примитивной политической конъюнктурной борьбы - изображать противника слабым, ни на что не способным, достойным презрения, чтобы выставить самого себя в лучшем свете. Информация о Советском Союзе подвергалась цензуре и фильтровалась через предвзятое мнение, вместо того чтобы давать чисто деловую картину, как этого требовали самые насущные интересы. Особая опасность такого подхода заключалась в слепоте перед реальностью...» .
Исходя из оценки общего стратегического положения и сил советского государства, германское руководство положило в основу планирования войны против СССР требование максимально быстрого, молниеносного разгрома его вооруженных сил, до того как Англия и Соединенные Штаты сумеют прийти им на помощь. В одном из документов главного командования сухопутных войск вермахта указывалось, что военная цель «Восточного похода» должна состоять в «быстром выведении из строя одного противника в войне на два фронта, чтобы можно было с полной силой обрушиться на другого противника [Англию - В.Д.]» . Характерно в этом отношении и высказывание фельдмаршала Кейтеля: «При разработке оперативно-стратегического плана войны на Востоке я исходил из следующих предпосылок:
а) исключительные размеры территории России делают абсолютно невозможным ее полное завоевание;
б) для достижения победы в войне против СССР достаточно достигнуть важнейшего оперативно-стратегического рубежа, а именно линии Ленинград - Москва - Сталинград - Кавказ, что исключит для России практическую возможность оказывать военное сопротивление, так как армия будет отрезана от своих важнейших баз, в первую очередь от нефти;
в) для разрешения этой задачи необходим быстрый разгром Красной Армии, который должен быть проведен в сроки, не допускающие возможности возникновения войны на два фронта» .
Нацистская стратегия придавала фактору времени столь большое значение, что Гитлер настаивал в июле 1940 г. напасть на Советский Союз осенью этого же года. Однако Кейтель и Иодль сочли этот срок совершенно нереальным, ввиду неподготовленности вооруженных сил, районов сосредоточения и развертывания войск, и не подходящим с точки зрения метеорологических условий.
22 июля главнокомандующий сухопутными войсками Браухич после совещания у Гитлера дал указание генеральному штабу сухопутных войск начать разработку плана нападения на Советский Союз. По заданию Гальдера начальник отдела иностранных армий Востока полковник Кинцель занялся исследованием вопроса о наиболее целесообразном направлении главных ударов с точки зрения характера и численности группировки советских войск. Он пришел к выводу, что наступление следует вести в направлении Москвы с севера, примыкая к побережью Балтийского моря, чтобы затем, осуществив громадный стратегический охват на юг, заставить советские войска на Украине сражаться с перевернутым фронтом . Начальник оперативного отдела генерального штаба генерал Грейфенберг, напротив, считал, что главный удар следует наносить на юге советско-германского фронта .
Еще ранее, в конце июля начальнику штаба перебрасывавшейся на Восток 18-й армии генерал-майору Марксу было поручено разработать оперативно-стратегический план военной кампании против Советского Союза. 1 августа он сделал первый доклад генералу Гальдеру с изложением своих идей по плану операций. Они предусматривали развертывание боевых действий двумя крупными группировками войск на московском и киевском стратегических направлениях. Гальдер при этом указал на важность того, чтобы главное направление на Москву не ослаблялось из-за частных операций на соседних участках фронта. (Этот вопрос стал впоследствии предметом острых разногласий в командовании вермахта.)
5 августа Маркс представил Гальдеру законченную оперативно-стратегическую разработку, получившую наименование «План Фриц» . В ней намечались два основных стратегических направления - московское и киевское: «Главный удар сухопутных сил должен быть направлен из Северной Польши и Восточной Пруссии на Москву. Поскольку сосредоточение в Румынии невозможно, другого направления главного удара не существует. Попытка обходного маневра с севера лишь удлинила бы путь войск и в конечном счете привела бы их в лесистую область северо-западнее Москвы. Ведущая идея наступления на основном направлении: прямым ударом по Москве разбить и уничтожить главные силы русской северной группы западнее, внутри и восточнее лесистой области; затем, овладев Москвой и Северной Россией, повернуть фронт на юг, чтобы во взаимодействии с немецкой южной группой занять Украину и в итоге выйти на рубеж Ростов - Горький - Архангельск» . По плану Маркса против Советского Союза предполагалось развернуть группировку войск, насчитывающую 147 дивизий, объединенных в пять армий, из которых три должны были действовать севернее Припятских болот.
Когда с идеями Маркса ознакомили немецкого военного атташе в Советском Союзе генерала Э.Кестринга, он выразил несогласие с тем, что взятие Москвы будет иметь решающее значение для победы над Красной Армией. По его мнению, наличие сильной промышленной базы на Урале позволило бы Советскому Союзу продолжать активное сопротивление, искусно используя имеющиеся и вновь созданные коммуникации. В последующих спорах с главным командованием сухопутных войск (ОКХ) о ведении операций на Востоке эти соображения Кестринга заняли определенное место в аргументации Гитлера и других руководителей ОКВ.
5 августа верховное главнокомандование отдало директиву «Ауфбау Ост» - «Строительные мероприятия на Востоке», положившую начало оборудования театра военных действий для нападения на СССР. Предусматривалось строительство сети коммуникаций, аэродромов, складов, казарм и прочих военных объектов на территории Польши и Восточной Г ермании .
В начале сентября на первого обер-квартирмейстера и постоянного заместителя начальника генерального штаба генерал-майора Паулюса была возложена задача, основываясь на плане Маркса, разработать соображения относительно группировки войск для войны против Советского Союза и порядка их стратегического сосредоточения и развертывания. К 17 сентября он закончил эту работу, после чего ему поручили обобщить все результаты предварительного оперативно-стратегического планирования. Это вылилось в докладную записку Паулюса от 29 октября. На ее основе оперативный отдел генерального штаба составил проект директивы по стратегическому сосредоточению и развертыванию «Ост».
Независимо от генерального штаба сухопутных войск по указанию начальника штаба верховного главнокомандования Иодля в штабе оперативного руководства вооруженных сил с начала сентября велась работа по составлению собственного плана войны против СССР. 19 сентября начальник опреративного отдела ОКВ Варлимонт представил этот план своему шефу Иодлю. Он предусматривал использование трех групп армий - «Север», «Центр» и «Юг» соответственно на ленинградском, московском и киевском направлениях. Главный удар наносился на Москву по кратчайшему пути через Минск и Смоленск. После захвата последних продолжение наступления на центральном направлении планировалось в зависимости от развития обстановки в полосе группы армии «Север». В случае ее неспособности решить поставленные задачи предполагалось приостановить наступление группы армий «Центр» и часть ее сил направить на помощь северному соседу . Эти идеи существенно отличались от планов ОКХ.
В ноябре-декабре генеральный штаб сухопутных войск продолжал уточнение и проигрывание на штабных учениях вопросов о главных стратегических направлениях, о распределении сил и средств для наступления, а также согласовывал результаты этой работы со штабом верховного главнокомандования и Г итлером. «Изучение всех этих вопросов, - писал генерал Филиппи, - подтвердило прежде всего мнение, что в ходе операций на все более расширяющейся, подобно воронке, к востоку территории не хватит немецких сил, если не удастся решающим образом сломить силу русского сопротивления до линии Киев - Минск - Чудское озеро» .
К середине ноября под руководством генерал-квартирмейстера генерального штаба были разработаны основы материально-технического обеспечения войск (из расчета 3 млн. человек, 600 тыс. машин, 600 тыс. лошадей, горючее и запчасти на 700-800 км).
28 ноября начальники штабов групп армий, предусмотренных для ведения наступления, получили указания представить независимо друг от друга соображения по плану операций. В разработке начальника штаба группы армий «А» (позднее «Юг») генерала Зоденштерна от 7 декабря 1940 г. предлагалось провести наступление тремя ударными группировками. Ведущая идея этого плана заключалась в том, чтобы, сковав советские войска в центре фронта, основные наступательные операции предпринять на флангах и по достижении первой стратегической цели - рубежа Кременчуг - Киев - Могилев - Даугавпилс - нанести удар на Москву по сходящимся направлениям, осуществив тем самым гигантский охват всей западной части Советского Союза . Зоденштерн считал, что временно следует отказаться от овладения окраинными областями на юго-востоке и северо-востоке Советского Союза, а прикрытие внешних флангов ударных группировок осуществлять заслонами, обращенными в сторону Ленинграда и Восточной Украины.
5 декабря генерал Гальдер изложил перед Гитлером основы планируемой военной кампании. Теперь уже окончательно вырисовывались три стратегических направления - ленинградское, московское и киевское. Главный удар Гальдер предлагал нанести севернее Припятской области из района Варшавы на Москву. Проведение операций намечалось силами 105 пехотных, 32 танковых и моторизованных дивизий. Кроме того, предусматривалось использование вооруженных сил Румынии и Финляндии. Для сосредоточения и развертывания этих сил Гальдер считал необходимым восемь недель. Он указал, что с первых чисел апреля или самое позднее с середины этого месяца скрыть от Советского Союза подготовку Германии к войне станет уже невозможно. Гитлер, одобрив в принципе этот план, заметил, что последующая задача состоит в том, чтобы после раскола советского фронта в центре и выхода к Днепру на московском направлении осуществить поворот части сил главной центральной группировки на север и разгромить во взаимодействии с северной группировкой советские войска в Прибалтике . Наряду с этим он предлагал в качестве первостепенной задачи разгром всей южной группировки советских войск на Украине. Только после выполнения этих стратегических задач на флангах фронта, в результате чего Советский Союз оказался бы изолированным от Балтийского и Черного морей и лишился бы важнейших экономических районов, он считал возможным приступить к взятию Москвы . По его мнению, для разгрома Советского Союза требовалось 130-140 дивизий.
Таким образом, еще в ходе планирования войны против СССР в германском командовании выявился разный подход к решению важнейших стратегических задач. Первую линию (концепция «концентрического наступления» на Москву) представлял генеральный штаб сухопутных войск, вторую (наступление по расходящимся направлениям), которой придерживался и Гитлер, - штаб ОКБ.
Генерал Филиппи писал, что разработанный в сентябре в ОКВ план содержал «опасную идею остановить войска в центре, повернуть подвижные силы на север, чтобы помочь дальнейшему продвижению застрявшего соседа еще до того, как будет предпринято наступление на Москву». «Можно полагать, - отмечал далее Филиппи, - что Гитлер прочно усвоил идею этого «поворота», подходившую как нельзя лучше к его стратегической концепции, хотя он ее совершенно иначе обосновывал» . Для него решающее значение имел захват сырьевых и продовольственных ресурсов Советского Союза. Вероятно, и Геринг сыграл немалую роль в том, чтобы разжечь в Гитлере стремление к достижению военно-экономических целей. В качестве председателя совета министров по обороне империи он потребовал в ноябре 1940 г. от начальника военно-экономического управления штаба ОКБ генерала Томаса составить для него доклад, в котором выдвигалось требование быстрого овладения европейской частью России в связи с обострением продовольственного положения империи и ее трудностей с сырьем. Особенно в нем подчеркивалась необходимость «захватить неразрушенными ценные русские экономические районы на Украине и нефтяные источники Кавказа» .
Так или иначе, точка зрения штаба ОКВ возобладала и нашла свое отражение в окончательной директиве № 21 верховного главнокомандования, подписанной Гитлером 18 декабря и получившей кодовое наименование «Барбаросса», которое как бы придавало войне символический смысл крестового похода.
В директиве говорилось, что после рассечения советского фронта в Белоруссии основной немецкой группировкой, наступающей из района Варшавы, создадутся «предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на север с тем, чтобы во взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям по взятию Москвы - важного центра коммуникаций и военной промышленности» .
На юге после уничтожения советских войск на южном фланге фронта планировалось «своевременно занять важный в военном и экономическом отношении Донецкий бассейн».
17 декабря Гитлер в беседе с Йодлем по плану «Барбаросса» особо подчеркнул, что в 1941 г. вермахт должен решить «все континентальные проблемы в Европе, так как после 1942 г. США будут в состоянии вступить в войну» . Следовательно, основная цель плана «Барбаросса» состояла в том, чтобы разбить советские вооруженные силы в одной скоротечной кампании. Директива № 21 требовала закончить подготовку к нападению на Советский Союз к 15 мая 1941 г.
Многие бывшие генералы вермахта и военные историки ФРГ пытались выдать решение Гитлера наступать на Москву только после разгрома советских войск в Прибалтике и на Украине за основной и единственный порок плана «Барбаросса». Они называли это решение «несовместимым с оперативными требованиями».
Тот факт, что генеральный штаб сухопутных войск не отстоял еще при подготовке плана «Барбаросса» своей идеи нанесения главного удара на Москву, генералы вермахта объясняли тем, что у Гитлера отсутствовала необходимая «основа для доверия и понимания», ему было трудно что-либо доказать, а начальник генштаба Гальдер и главком сухопутных войск Браухич, исходя из мысли Мольтке, что «ни один оперативный план не может с определенностью предугадать события, которые последуют за первым столкновением с главными силами противника», полагали, что после достижения линии Днепра проводить последующие операции можно будет исходя из конкретно сложившейся обстановки .
Ссылки на упрямство и недоверчивость Гитлера не могут служить сколько-нибудь веским алиби для германских генералов. Но дело даже не в этом. Нельзя сводить порочность плана «Барбаросса» только к вопросу о Москве (с тем же правом можно было бы сейчас сказать, что наступление на Москву представлялось невозможным без ликвидации угрозы со стороны фланговых стратегических группировок советских войск). Главное здесь заключается в том, что план «Барбаросса» был превыше сил вермахта, а потому оказался авантюристичным, порочным в своей основе. На совещании Гальдера с генералом Фроммом 28 января 1941 г. было установлено, что подготовленных людских резервов для восполнения потерь в войне против СССР хватит лишь до осени 1941 г., а снабжение горючим вызывает серьезные опасения. Войска совершенно не готовились к ведению действий в зимних условиях. Когда ОКХ представило в верховное главнокомандование свои соображения об обеспечении армии зимним обмундированием, Гитлер отклонил их на том основании, что «Восточный поход» должен закончиться до наступления зимы. Эти зловещие факты не получили правильной оценки со стороны германского генералитета. На совещании командующих группами армий и армиями у Г альдера 14 декабря 1940 г., где подводились итоги штабных игр по плану нападения на Советский Союз, был сделан единодушный вывод, что Красная Армия будет разбита в скоротечной кампании, которая займет не более 8-10 недель .
31 января ОКХ отдало на основе плана «Барбаросса» директиву по стратегическому сосредоточению и развертыванию. Для ведения операций создавались три группы армий: «Север», «Центр» и «Юг». Перед ними была поставлена задача рассечь глубокими танковыми клиньями главные силы Красной Армии, находившиеся в западной части Советского Союза, и уничтожить их, воспрепятствовав отходу боеспособных войск в «глубину русского пространства». В качестве первой стратегической цели была намечена линия Днепра и Западной Двины. Основные прорывы планировалось осуществить вдоль магистральных шоссейных дорог: в полосе группы армий «Центр» - вдоль шоссе Брест - Минск, а на фронте группы армий «Юг» - вдоль шоссе Ровно - Киев.
Для выполнения плана «Барбаросса» были развернуты громадные вооруженные силы. К июню 1941 г. они насчитывали в целом 7234 тыс. человек . Из них в сухопутных войсках и армии резерва было 5 млн. человек, в ВВС - 1680 тыс., в ВМС - 404 тыс., в войсках СС - 150 тыс. человек. С 1 сентября 1939 по 6 апреля 1941 г. число дивизий в действующих сухопутных войсках возросло с 88 до 190. К моменту нападения на СССР их было уже 209. Из них для выполнения плана «Барбаросса» были выделены 152 дивизии и две бригады. Кроме того, страны - сателлиты Германии выставили против СССР 29 дивизий (16 финских, 13 румынских) и 16 бригад (три финские, девять румынских и четыре венгерские), в которых числилось в общей сложности 900 тыс. солдат и офицеров. Следовательно, всего против СССР противник развернул 181 дивизию и 18 бригад. Ударная сила «восточной армии» - танковые войска имели около 3500 танков и штурмовых орудий. В сухопутных войсках было 7200 орудий. Основные силы были сосредоточены в группе армий «Центр», которая имела задачу расколоть советский фронт стратегической обороны. Главная ставка делалась на сокрушающую мощь внезапного удара массированными силами танков, пехоты и авиации и на их молниеносный бросок к важнейшим центрам Советского Союза. Для поддержки сухопутных войск, действовавших против Красной Армии, было выделено четыре воздушных флота. Кроме того, сателлиты Германии выставили против Красной Армии около 1000 самолетов . Сосредоточение немецких войск к исходным районам с помощью железнодорожного транспорта началось в январе. Постепенно нарастая, оно проводилось вплоть до июня пятью эшелонами. Для этих целей потребовалось 97 тыс. железнодорожных составов. К концу февраля в исходных районах находились 25 дивизий, в марте прибыло еще семь, в апреле - 13, в мае - 30 и до 22 июня - еще 51 дивизия. Сосредоточение военно-воздушных сил началось с 10 июня.
Для скрытия подготовки нападения на Советский Союз германское командование усиливало мероприятия по дезинформации. С этой целью Кейтель издал 15 февраля 1941 г. специальную директиву по дезинформации противника. Проведение дезинформационных мероприятий разбивалось на два этапа. На первом, примерно до апреля 1941 г., предусматривалось создать ложное представление относительно намерений немецкого командования, акцентируя при этом внимание на планах вторжения в Англию и на подготовке операции «Марта» (против Греции) и «Зонненблюме» (в Северной Африке). На втором этапе, когда скрыть подготовку к нападению на Советский Союз, как отмечалось в директиве, станет уже невозможно, стратегическое развертывание сил для операции «Барбаросса» должно было быть представлено в свете величайшего в истории войн дезинформационного маневра с целью «отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию». Чтобы создать иллюзию подготовки вторжения немецких войск в Англию, командование вермахта распространяло дезинформационные сведения о несуществующем «авиадесантном корпус», прикомандировало к войскам переводчиков английского языка, отдало приказ напечатать в массовом количестве топографические материалы по Англии, подготовило «оцепление» определенных районов на побережье Ла-Манша, Па-де-Кале и в Норвегии, разместило на побережье ложные «ракетные батареи» и пр. Кроме того, были разработаны специальные операции «Хайфиш» и «Харпуне», чтобы усилить впечатление подготовки высадки десантов в Англию из Норвегии и Северной Франции.
30 апреля срок нападения на Советский Союз был перенесен с 15 мая на 22 июня . К этому времени большая часть соединений вермахта, участвовавших в захвате Югославии и Греции, была переброшена в район действий «Барбаросса». Развернутая против СССР группировка противника намного превосходила противостоявшие ей силы Красной Армии. На 21 июня в советских западных округах насчитывалось 2,9 млн. человек в составе всех видов вооруженных сил и родов войск . Против них было выставлено в одних сухопутных войсках Германии (с учетом армий сателлитов) около 4,2 млн. человек. Группировка советских войск была в оперативном отношении крайне невыгодна для отражения удара превосходивших сил врага. Из 170 дивизий, входивших в состав Ленинградского округа, Прибалтийского, Западного, Киевского Особых округов и Одесского военного округа, в их первом эшелоне к утру 22 июня на фронте от Балтийского моря до Карпат имелось только 56 дивизий (32%). Остальные дивизии, входившие в состав этих округов, находились на марше или в районах сосредоточения на общей глубине от 300 до 400 км от границ. Противник же имел в это время перед фронтом советских округов в первом эшелоне 63% всех соединений армии вторжения.
Таким образом, к моменту нападения на Советский Союз Гитлер располагал громадными военно-политическими и экономическими преимуществами. Вся Западная, Северная и Южная Европа, за исключением Англии, лежала с ее экономическими и людскими ресурсами у его ног. В результате заключения с Гитлером пакта о ненападении в августе 1939 г. Сталин поставил Советский Союз вплоть до 22 июня 1941 г. в положение полной международной изоляции. С этим были связаны и другие ошибки и просчёты, сыгравшие роковую роль в судьбе советского народа. Пакт позволил Гитлеру обрушить удар вермахта против Франции, не опасаясь за свой тыл на Востоке и вести войну только на одном фронте. После разгрома Германией Франции в мае-июне 1940 г. советская политика должна была сделать все возможное, чтобы решительно пойти на сближение с Англией и США и заключить с ними союз, противопоставленный державам «оси». Для этого имелись все необходимые условия. Вместо этого Сталин предпочел дальнейшее сотрудничество с Гитлером и заигрывание с державами «оси». Из Советского Союза в Германию вплоть до 22 июня 1941 г. потоком шли сырье, продовольствие и нефть. И все это, несмотря на то что в Москву по различным каналам - и от Черчилля, и от Бенеша, и от собственной разведки, и от других источников - текла достоверная информация о том, что Германия изготовилась к войне против Советского Союза. Даже называлась конкретная дата нападения.
Но Сталин полностью игнорировал эти предупреждения, он отмахивался от них. А в высших военных и государственных структурах не нашлось ни одного человека, который бы нашел в себе мужество обрисовать перед ним реальное положение вещей и смертельную опасность, нависшую над страной. Даже начальник главного разведывательного управления генерального штаба Красной Армии генерал-полковник Ф.И.Голиков, в чью святую обязанность входило объективное информирование правительства о внешних угрозах, накладывал на агентурные донесения о надвигающейся нацистской агрессии резолюцию: «Дезинформация». Все подстраивались под мнение Сталина, только бы не впасть в немилость вождя.
14 июня 1941 г., за неделю до начала нацистской агрессии против СССР, ТАСС опубликовал в центральных органах печати особое заявление, в котором он по уполномочию советского правительства возвестил, что слухи о якобы готовящемся нападении Германии на Советский Союз лишены оснований. Это заявление, сделанное в соответствии с установкой Сталина, дезориентировало народ и армию, дорого обошлось стране. Вооруженные силы страны не были своевременно приведены в готовность к отражению агрессии. За дилетантизм и роковые ошибки Сталина советскому народу пришлось тяжело расплачиваться своей кровью. Немецким войскам удалось до конца 1941 года выйти вплотную к Ленинграду и Москве, захватить почти всю Украину. Но на этом все политические, стратегические и экономические расчеты Гитлера и его генералов, основанные на «молниеносной войне» по плану «Барбаросса», рухнули. Советский народ, государственные органы и военное командование сумели быстро оправиться от первых тяжелых поражений и в упорных боях остановить наступление вермахта. Еще в середине октября Гитлер говорил своим приближенным: «22 июня мы распахнули дверь, не зная, что за ней находится» .
Декабрьское контрнаступление Красной Армии впервые с начала Второй мировой войны заставило германское командование перейти к стратегической обороне. Приказ об этом был отдан ставкой Гитлера 8 декабря 1941 г. В нем говорилось: «Главным силам войск на Востоке по возможности скорее перейти к обороне...» . Основная цель плана «Барбаросса» - «разбить Советскую Россию в ходе кратковременной молниеносной кампании» - не была достигнута. Вермахт не только оказался не в состоянии разгромить Красную Армию, но и сам потерпел жестокое поражение под Москвой. Перед Германией возникла перспектива затяжной войны, в которой у нее не было никаких шансов на победу.
Готовясь к борьбе за господство в Европе, гитлеровское руководство постаралось сделать всё возможное, чтобы избавить Германию от необходимости вести войну на два фронта. Благодаря пакту Молотова - Риббентропа, заключенному 23 августа 1939 г., оно добилось нейтралитета Советского Союза для проведения военных кампаний на Западе. Это позволило военной машине Гитлера без труда расправиться с Францией. Тем самым Германии обезопасила себя с Запада для войны против Советского Союза. Казалось, сбылись самые смелые мечты германских генштабистов: путь для военного похода на Восток был для них открыт. Но после 22 июня 1941 г. для них случилось совершенно невероятное и непостижимое. Германия оказалась неспособной одержать победу только на одном советско-германском фронте. До высадки западных союзников в Нормандии в июне 1944 г. вермахт в единоборстве с Советской Армией потерпел сокрушительное поражение. Судьба Второй мировой войны и фашистской Германии была решена на полях сражений в Советском Союзе.
Примечания:
Гальдер Ф. Военный дневник. М., 1969. Т. 2. С. 80
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Frankfurt am Main, 1965, Bd. I, S.360, 363 (В дальнейшем KTB OKW).
Mattloff U., Snell E. Strategic Planning for Coalition War 1941-1941. Wash., 1953. Р. 32.
Hull C. The Memoirs. N-Y., 1948. Vol. II. Р. 967; Dowson K. The Decision to aid Russia 1941. Chapel Hill, 1956, Р. 46.
Woodward L. British Foreign Policy in the Second World War. London, 1962. Р. 150; Батлер Дж. Большая стратегия. Сентябрь 1939 - июнь 1941. М., 1959. С. 497.
Sherwood R. Roosevelt аМ Hopkins. N-Y., 1950. Р. 235.
Longer W., Qeason S. ТЪе undeclared Wаг 1940/1941. N.Y., 1953. Р. 569; Батлер Дж., Гуайер Дж. Большая стратегия. Июнь 1941 - август 1942. М., 1967. С. 123.
Akten der deutschen auswartigen Politik. Ser. D. Bd. XII. S. 266 (Далее DGAP).
Hillgruber А. Hitlers Strategie, Frankfurt а/М., 1965. S. 400.
Гальдер Ф. Указ. соч. Т.П. С. 429.
См.: КТВ OKW Вd1. S. 107-108.
Батлер Дж. Указ. соч. С. 21.
Кулиш В. История второго фронта. М., 1971. С. 63.
Промышленность Германии в период войны 1939-1945 гг. М., 1956. С. 270; Klein В. Gеrmаnу"s Есопотк РгерагаЕош. Саmbrige, 1959. Р. 99.
Stettimus Е. Land-Lease. Wеароns for Victory. N-Y., 1944. Р. 93.
См.: Исраэлян В.Л., Кутаков Л.Н.Дипломатия агрессоров. М., 1967. С. 86-90.
КТВ CKW. М II. S. 328.
Hitlers Weisungen fur die Kriegfuhrung 1939-1945. Hrsg. von W. Hubatsch. Frankfurt а/М., 1962. S. 103-105.
Staatsmamer und Diplomaten bei Hitler 1939-1941. Hrsg. von А. Hillgruber. Frankfurt а/М., 1967. 8. 507.
Ibid. S. 521-523.
Hillgruber A. Japan und der Fall „Barbarossа“ // Militarwissmschaffliche Rundschau. 1968. Nr. 6. S. 314.
Ibid. S. 335. См. также: Каsе Т. Eclipse оf the Rising Sun. L., 1951. Р. 160; Presseisen Е. Germany аМ Jараm. А Study in totalitarian Diplomacy 1933-1941. The Hague, 1958. P. 301; butow R. ^а and the Coming of the War. Princeton, 1961. P. 208; Staatsmanner und Diplomaten bei ШМ 1939-1941. S. 598.
Hupke Н. Japans Russlandpolitik 1939-1941. Frankfurt а/М., 1962. S. 128.
См. Гальдер Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 80. KTB ORW, Bd. I. S. 257.
Hillgruber A. Japan und der Fall „Barbarossa“. S. 331-332.
Исраэлян В.Л., Лутаков Л.Н. Указ. соч. С. 167.
DGFP. Ser. D. Vol. XII. Doc. 456, 464.
KTB OKW. Bd. I. S. 225.
КТВ От ВД I. S. 257.
Hillgruber A. Hillers Strategie. Politik und Kriegfuhrung. S. 211; International Military Tribunal. W XXXVI. Dос. 873-FS. Р. 400.
Uhlig Н. Das Еinwirken BUtlers auf die Planung und Fuhrung des Ostfeldzuges // Аш Роlitik und Zeitgeschichte. 1960. 16 Мак, S. 166.
КТВ От. Bd. I. S. 1033.
Weinberg G. Hitlers Entschluss zum Angriff auf die Sowjetunion // Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte. 1957. N. 4. S. 309.
Phillippi A., Heim F. Der Feldzug gegen Sowjetrussland 1941 bis 1945. Stuttgart, 1962. S. 309.
Forster G., Helmert Н., Otto Н., Schmtter Н. Der Barbarossaplan in Politik und Kriegfuhrung Hitlerdeutschlands 1940/41 // Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft. 1959. № 3. S. 310.
Филиппи А. Припятская проблема. M., 1959. С. 152. По мнению генерал-майора Маркса, для разгрома Красной Армии требовалось девять, а в самом неблагоприятном случае 17 недель. Гитлер же считал, исходя из заключения штаба ОКВ от 31 июля 1941 г., что для этого необходимы пять месяцев, т.е. 21-22 недели.
Higgins Т. Hitler and Russia. The Third Reich in a Two-Front War 1937-1943. N.Y., 1966. Р. 64; Seth R. Operation Barbarossa. London, 1964. Р. 94-95.
Blau G. The German Campaign in Russia. Planning and Operations (1940-1942).Washington., 1955. Р. 13.
Philippi A., Heim F. Op. cit. S. 31. См. также: Gorlitz W. Paulus: Ich stehe hier auf Befehl. Frankfurt a/M., 1960. S. 114-115.
Wegener С. Heeresgruppe Süd. Der Kampf im Süden der Ostfront 1941-1945. Bad Nauheim, 1970. S. 20.
KTB OKW. Bd. I. S. 982.
См. также: Hillgruher A. Hitlers Strategie. S. 230.
Philippi A., Heim F. Op. cit. S. 43.
Hitlers Weisungen. S. 86.
KTB OKW. Bd. I. S. 996.
Philippi A., Heim F. Op. cit. S. 4718.
Blau G. Op. cit. Р. 20.
KTB OKW. Bd. I. S. 97E.
IMT. Vol. XXVI. Doc. 873-PS. P. 399.
Военно-исторический журнал. 1966. № 6. С. 10.
Hitler’s secret Conversations 1941-1944. N-Y., 1953. Р. 59.
Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945. S. 171.
Литература:
Военно-исторический журнал. 1961. № 9.
Военно-исторический журнал. 1966. № 6.
Гальдер Ф. Военный дневник. М., 1969. Т. 2.
Исраэлян В.Л., Кутаков Л.Н.Дипломатия агрессоров. М., 1967.
Кулиш В. История второго фронта. М., 1971.
Промышленность Германии в период войны 1939-1945 гг. М., 1956.
Филиппи А. Припятская проблема. M., 1959.
Akten der deutschen auswartigen Politik. Ser. D. Bd. XII.
Blau G. The German Campaign in Russia. Planning and Operations (1940-1942).Washington., 1955.
Butow R. Тда and the Coming of the War. Princeton, 1961.
Dowson K. The Decision to aid Russia 1941. Chapel Hill, 1956
Gorlitz W. Paulus: Ich stehe hier auf Befehl. Frankfurt a/M., 1960.
Goszony P. Uber die Vorgeschichte des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion im Juni 1941 // Allgemeine Schweizerische Militarzeitschrift. 1966. № 7. S. 400.
Forster G., Helmert Н., Otto Н., Schnitter Н. Der Barbarossaplan in Politik und Kriegfuhrung Hitlerdeutschlands 1940/41 // Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft. 1959. № 3.
Higgins Т. Hitler and Russia. The Third Reich in a Two-Front War 1937-1943. N.Y., 1966.
Hillgruber A. Der Einbau der verbundenten Armeen in die deutsche Ostfront 1941-1944 // Wehrwissenschaftliche Rundschau. 1960. № 12. S. 662.
Hillgruber А. Hitlers Strategie, Frankfurt а/М., 1965.
Hillgruber A. Japan und der Fall „Barbaross^ // Militarwissenschaftliche Rundschau. 1968. Nr. 6.
Hitlers Weisungen fur die Kriegfuhrung 1939-1945. Hrsg. von W. Hubatsch. Frankfurt а/М., 1962.
Hull C. The Memoirs. N-Y., 1948. Vol. II.
Hupke Н. Japans Russlandpolitik 1939-1941. Frankfurt а/М., 1962.
International Military Tribunal. ^l XXXVI. Dос. 873-FS.
Каsе Т. Eclipse of the Rising Sun. L., 1951.
Klein B. Germany’s B^Mmm Рrеparаtions. Саmbrige, 1959.
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Frankfurt am Main, 1965. Bd. I.
Longer W., Qeason S. The undeclared Wаг 1940/1941. N.Y., 1953.
Mattloff U., Snell E. Strategic Planning for Coalition War 1941-1941. Wash., 1953.
Phillippi A., Heim F. Der Feldzug gegen Sowjetrussland 1941 bis 1945. Stuttgart, 1962.
Presseisen Е. Germany and Jараn. А Study in totalitarian Diplomacy 1933-1941. The Hague, 1958.
Seth R. Operation Barbarossa. London, 1964.
Sherwood R. Roosevelt and Hopkins. N-Y., 1950.
Staatsmanner und Diplomaten bei Hitler 1939-1941. Hrsg. von А. Hillgruber. Frankfurt а/М., 1967.
Stettinius Е. Land-Lease. Wеароns for Victory. N-Y., 1944.
Uhlig Н. Das Еinwirken ffitlers auf die Planung und Fuhrung des Ostfeldzuges // Аш Роlitik und Zeitgeschichte. 1960. 16 Harz
Wegener С. Heeresgruppe Sud. Der Kampf im Suden der Ostfront 1941-1945. Bad Nauheim, 1970.
Weinberg G. Hitlers Entschluss zum Angriff auf die Sowjetunion // Vierteliahreshefte fur Zeitgeschichte. 1957. N. 4.
Woodward L. British Foreign Policy in the Second World War. London, 1962.
На рассвете 22 июня 1941 г. германские войска обрушили удар колоссальной силы против Советского Союза
На рассвете 22 июня 1941 г. германские войска обрушили удар колоссальной силы против Советского Союза. После захвата почти всех континентальных стран Западной Европы и их ресурсов гитлеровское командование приступило к главному и решающему этапу борьбы за установление полного господства нацистской Германии в Европе.
Военная кампания на Западе в мае – июне 1940 г. принесла Германии не только лавры быстрой победы. Она ознаменовалась и первой серьезной неудачей вермахта, имевшей далеко идущие политические и стратегические последствия: гитлеровские стратеги оказались не в состоянии вывести из войны Англию и создать в преддверии нападения на Советский Союз все условия для решения центральной проблемы своей стратегии – устранения опасности ведения войны на два фронта, которая десятилетиями, как кошмар, довлела над умами германских милитаристов.
Поэтому после разгрома Франции перед руководством Германии во весь рост встала дилемма: сосредоточить ли еще до нападения на СССР очередные усилия на выводе из войны Англии, чтобы до конца избавиться от всякой опасности с тыла в предстоявшем походе на Восток, или, оставив пока в стороне Великобританию, обрушить новый удар на Советский Союз. Для решения этой проблемы ему пришлось взвесить целый ряд политических, экономических и военно-стратегических факторов. В первую очередь надо было установить:
- в состоянии ли вермахт осуществить быстрый военный разгром Англии, и если нет, то каковы возможности для сокрушения Советского Союза в стиле блицкрига?
- какую позицию займут в этом случае Соединенные Штаты и как скоро они смогут развернуть свой военный потенциал и активно вмешаться в войну на европейском континенте?
- каковы возможности и условия использования «японского фактора» для совместной борьбы против Советского Союза и отвлечения сил Англии и США от европейского континента?
- на каких военных союзников в Европе можно рассчитывать для войны против СССР?
Поиски выхода из создавшегося стратегического положения породили определенные колебания в военном руководстве вермахта. Первое время оно стало серьезно готовиться к десантной операции против Англии. Но с самого начала эта операция внушала германскому генералитету большие сомнения. Его желанию самым надежным способом – вторжением – нейтрализовать Британские острова противостояли мрачные раздумья. Больше всего нацистские стратеги, имея в перспективе поход на Восток, опасались из-за слабости Германии на море понести крупные материальные и людские потери, а также утратить стратегическую инициативу в результате возможных осложнений и неудач при осуществлении высадки.
За каких-нибудь полтора месяца, остававшихся до нападения на Советский Союз, весь мир был потрясен сенсацией: 10 мая в Англии, вблизи фамильного замка лорда Гамильтона, приземлился на парашюте помощник Гитлера по партии Рудольф Гесс. Что бы это могло означать? Предприняло ли нацистское руководство последнюю отчаянную попытку договориться перед походом на Восток о перемирии с Лондоном, чтобы обезопасить свой тыл? Или даже вовлечь Англию в борьбу против ненавистного большевизма? Совершил ли Гесс полет в Англию на собственный страх и риск или с ведома и по поручению Гитлера? О чем шла речь на секретных переговорах Гесса с англичанами? Какие результаты они принесли? Вплоть до наших дней это остается до конца и до деталей неразгаданной тайной.
Летом 1990 г. волею судьбы я оказался непосредственно вовлеченным в хитросплетения полета Гесса. Мне пришлось соприкоснуться – на этот раз совершенно неожиданным образом – с одной из наиболее интригующих и неразгаданных тайн Второй мировой войны. Это было в Кёльне, где я участвовал в советско-западногерманском семинаре. Мне позвонили по телефону. Голос в трубке сказал: «С вами говорит сын Рудольфа Гесса – Вольф Рюдигер Гесс. Мне очень хотелось бы повидаться с Вами и передать Вам информацию, которая может пролить новый свет на полет моего отца в Англию. Я готов приехать в Кёльн вместе с адвокатом отца на Нюрнбергском процессе Альфредом Зайдлем в удобное для вас время».
Когда я услышал эти слова, у меня дух перехватило. Ведь сколько бумаги было исписано историками и журналистами о загадочном полете Гесса! Сколько версий с ним связано! А ясности в этом вопросе так и не удалось достигнуть. Неужели Вольф Гесс, наконец, приподнимет завесу над тайной полувековой давности? Тот факт, что Гесс выбрал именно меня для такой беседы, объяснялся, очевидно, тем, что в политических и научных кругах ФРГ было известно, что я занимал в период реформ советской системы при Горбачеве пост председателя Научно-консультативного совета при МИДе, и Вольф Гесс надеялся, что сможет убедить меня сыграть определенную роль в переоценке целей и значения миссии его отца в Англии.
На следующий день состоялась наша встреча. Г-н В. Гесс приехал вместе с Зайдлем в Кёльн из Мюнхена. После кратких приветствий он сразу перешел к делу. По его мнению, в исторической литературе и публицистике сложилась неверная трактовка «миссии Гесса» в Англию в 1941 г. Она обычно изображается как попытка заключить с англичанами мир, чтобы обеспечить тыл Германии для нападения на Советский Союз и избежать войны на два фронта. На самом же деле «миссия Гесса», мол, не носила антисоветского характера, а преследовала далеко идущие миротворческие цели – покончить вообще с войной и заключить всеобщий мир.
Правда, выведать у отца истинную подоплеку его загадочного полета оказалось для Гесса-младшего не так просто. На всех его свиданиях с отцом в тюрьме Шпандау всегда присутствовали представители охраны четырех держав, фиксировавшие каждое слово их разговора. У Вольфа Гесса сложилось впечатление, что отец чего-то боялся и всячески избегал затрагивать щекотливую тему. Тогда Вольфу Гессу пришла в голову мысль тайно передать отцу записку с обращенными к нему вопросами. Копию этой записки он передал мне. Записка была написана в Грефельфинге 27 марта 1984 г. и незаметно для охраны передана Гессу в тюремную камеру французским тюремным священником Шарлем Габелем, а затем возвращена им Гессу-младшему с пометками его отца. Вот ее содержание:
«В связи с моей книгой, известной тебе под названием «Мой отец Рудольф Гесс», и в связи с твоей идеей о заявлении для прессы к 90-летию имеют значение следующие два вопроса:
1. Можно ли исходить из того, что если бы твой полет мира в Великобританию 10 мая 1941 г. увенчался бы успехом в принципе, т. е. если бы Черчилль объявил, например, о своей готовности к созыву мировой мирной конференции, то немецкое нападение на Советский Союз 22 июня 1941 г. не состоялось бы и тем самым была бы прекращена Вторая мировая война со всеми ее кровопролитиями и опустошениями?
2. Можно ли, по меньшей мере, исходить из того, что после успешного возвращения из Великобритании ты использовал бы в полную меру вес твоего в то время очень большого престижа для осуществления политики, обозначенной в пункте 1? Пожалуйста, дай мне на этом листе твой комментарий».
На первый вопрос Р. Гесс ответил: «Само собой разумеется. Наверняка». На второй – аналогично: «Наверняка. Само собой разумеется. Большего об этом сказать не могу». В конце листа Гесс приписал: «Все содержится уже в твоих вопросах». Эти пометки Гесс сделал в присутствии священника Габеля.
По мнению Гесса-младшего, эта записка подтверждала версию, согласно которой миссия его отца состояла в том, чтобы покончить со Второй мировой войной путем созыва мирной конференции, но английское правительство не прореагировало на предложения Гесса. Чтобы не выглядеть в глазах общественности противницей установления мира в Европе в канун нападения Германии на Советский Союз, английская сторона, по убеждению В. Гесса, до сего времени тщательно скрывает документы, связанные с переговорами его отца в Англии в мае 1941 г. и в последующее время. В. Гесс видел именно в этом причину того, что доступ к документам, проливающим свет на миссию Р.Гесса, будет открыт лишь после 2017 г. Больше того, он считал, что англичане, опасаясь в последние годы освобождения Гесса из тюрьмы и обнародования им нежелательных для английской политики фактов, постарались убрать «узника Шпандау», инсценировав его самоубийство в августе 1987 г. Об этом В. Гесс написал в своей книге «Убийство Рудольфа Гесса». Он считал, что его отец не повесился сам на шнуре от настольной лампы, как гласит официальная версия, а был задушен. Одни таинственные загадки Р. Гесса наслоились на другие!
Откровенно говоря, записка В. Гесса меня не убедила, особенно если учесть весьма тенденциозно (если не сказать большего) сформулированные вопросы. Можно ли поверить, что Гесс преследовал своим полетом в Англию миротворческие цели? Действительно ли он стремился в последний момент положить конец дальнейшему расширению войны и ее превращению в мировую? Хотел ли он предотвратить нападение Гитлера на Советский Союз? Насколько реален был созыв в то время мирной конференции всех держав, включая Советский Союз?
Чтобы ответить на эти вопросы, вспомним, в какой обстановке в мае 1941 г. был совершен полет Гесса в Англию. Сжатая до предела пружина военной машины Германии распрямилась лишь на одну треть. Но и этого было достаточно, чтобы разгромить Польшу и Францию, захватить Бельгию, Голландию, Люксембург, Норвегию, балканские государства и установить германское господство фактически над всей континентальной Европой, исключая Советский Союз. К 10 мая 1941 г., когда Гесс тайно вылетел в Англию, немецкий вермахт уже изготовился для очередного удара – на этот раз по Советскому Союзу. Ради этого тщательно готовились немецкий тыл (устранение Франции) и стратегические фланги (подчинение Балкан и Скандинавии). Гитлер и его окружение были твердо уверены в быстрой победе. В мае 1941 г. фюрер сравнил Россию с «колоссом на глиняных ногах». После репрессий Сталина против цвета военных кадров страны, после советско-финской воины, выявившей низкую боеспособность Красной Армии, у него были для подобных сравнений веские основания. Успешный блицпоход против Советского Союза принес бы Германии неограниченное господство над Европой. Мог ли Гитлер отказаться от прежних завоеваний и от заманчивых перспектив плана «Барбаросса»?
Думаю, что Гитлер не был бы Гитлером, если бы пошел на это. Даже накануне нападения на Польшу и развязывания Второй мировой войны он в одном из выступлений перед генералами выразил опасение, как бы «какая-нибудь каналья» в последний момент не выступила с мирными предложениями и не помешала бы ему бросить вермахт в бой. А тут, после головокружительных военных успехов, в роли такой «канальи» выступает сам Гесс, заместитель фюрера по партии! В мае 1941 г. Гитлер в лучшем случае мог согласиться на сделку с Англией, если бы она признала господствующее положение Германии в Европе и полностью высвободила ее тыл для войны против СССР. Вольф Гесс говорил мне, что накануне полета его отец 4 часа разговаривал с Гитлером. Однако о содержании беседы ничего не известно. Но надо полагать, что свой полет Гесс совершил с ведома Гитлера, хотя 13 мая последний обвинил своего заместителя в измене и бегстве перед самым решающим моментом в истории Германской империи – нападением на Советский Союз. Анализируя логику поведения и замыслы ставки Гитлера, можно прийти к выводу, что ни объективно, ни субъективно тогдашнее руководство Германии не пошло бы по своей воле на созыв мирной конференции и прекращение войны.
Ну а что можно сказать о позиции английского правительства, лично Черчилля? В Лондоне прекрасно сознавали, что с Германией Гитлера у Англии не может быть более никаких сделок. Об этом достаточно убедительно говорил печальный пример Мюнхенского соглашения. Черчилль был настроен вести войну во имя сокрушения германской державы бескомпромиссно, до конца, и если вынудит обстановка, даже из колоний. Он воспринимал Гитлера и его тоталитарный режим как смертельную опасность для Англии и не сомневался в том, что в противостоянии нацистской экспансии рано или поздно возникнет великая коалиция, которая объединит Великобританию, США, Советский Союз и другие государства. В мае 1941 г. Черчилль уже располагал точными данными о готовившемся ударе вермахта по Советскому Союзу и даже сигнализировал об этом Сталину. Дать Гитлеру свободу рук на Востоке, чтобы оказаться затем в положении его очередной жертвы? Черчилль пойти на это не мог. Это было бы верхом государственной глупости. Следовательно, и в Англии миссия Гесса была обречена на провал.
Разгадка тайны Гесса еще впереди, когда историки получат доступ к документам, раскрывающим содержание его переговоров в Англии. Но все же можно считать, что главной целью миссии Гесса было нейтрализовать Англию на период войны против Советского Союза. Об этом указывает в книге «Мирная ловушка Черчилля» официальный историограф английского МИД Аллен Мартин. Он писал, что Черчилль, желая ввести немцев в заблуждение, дал им понять, что он якобы заинтересован в переговорах с германскими представителями и в примирении с Германией. На самом деле он, как дальновидный политик, отлично сознавал, что Гитлеру нельзя предоставлять свободный тыл на Западе, чтобы позволить без труда разгромить Советский Союз. Он нисколько не сомневался, что после выполнения этой задачи Гитлер повернет против Англии. В этом смысле Черчилль был намного мудрее и дальновиднее Сталина, развязавшего Германии пактом 1939 г. руки для войны на Западе и не отдававшего себе при этом отчета в том, чем же это может обернуться в дальнейшем для Советского Союза.
Независимо от активно проводившегося по многим каналам мирного зондажа для поисков возможных соглашений с Англией германское руководство приняло в середине 1940 г. твердое решение о нападении на Советский Союз. «Если Россия будет разгромлена, – говорил Гитлер на совещания в ставке 31 июля 1940 г., – Англия потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия. Вывод: в соответствии с этим рассуждением Россия должна быть ликвидирована». Нападение на СССР, по расчетам нацистских стратегов, сулило успех только в том случае, если бы удалось молниеносно разгромить Красную Армию еще до того, как Англия, а также, как можно было предполагать, США развернут широкие действия против Германии.
Поэтому оценка возможной линии стратегического поведения англосаксонских держав приобретала для руководства вермахта особый смысл. Оно не могло не заметить, как на протяжении второй половины 1940 и первой половины 1941 г. Соединенные Штаты в ускоряющемся темпе совершали эволюцию от дружественного по отношению к Англии нейтралитета к позиции ее «невоюющего союзника». В августе 1940 г. в Лондоне состоялись «предварительные» англо-американские штабные переговоры, в сентябре – была достигнута договоренность о передаче Англии 50 американских эсминцев. После переизбрания президента Рузвельта в ноябре 1940 г. на третий срок американское правительство, преодолевая сопротивление изоляционистов внутри страны, стало открыто проводить внешнюю политику под девизом: «Спасем Америку, помогая Великобритании».
В принятом 27 марта 1941 г. англо-американском соглашении были заложены основы совместной глобальной стратегии США и Англии в войне против Германии и Японии. Характерно, что в них Советскому Союзу не отводилось никакой роли, хотя государственный департамент еще в январе 1941 г. получил первые данные о готовившемся походе вермахта на Восток, а в последующем эти данные были значительно умножены. Такая позиция США и Англии объяснялась не только инерцией их антисоветской политики, но и очень низкой оценкой с их стороны военной мощи Советского Союза. 14 июня Объединенный разведывательный комитет сделал вывод, что Германии потребуется самое большее шесть недель, чтобы взять Москву.
Как же оценивало «фактор США» в преддверии нападения на Советский Союз германское руководство? Оно, бесспорно, учитывало очевидную возможность столкновения с Соединенными Штатами, однако полагало, что это произойдет не ранее 1942 г.Немецкий военный атташе в Вашингтоне генерал Беттихер доносил 11 марта 1941 г., что США лишь в 1942 г. достигнут полной готовности к войне. Этого мнения придерживался и Гитлер. 30 марта 1941 г. на совещании в ставке он заявил, что максимального уровня производства США достигнут только через четыре года. Такой срок нацистские стратеги считали вполне достаточным, чтобы не только сокрушить Советский Союз, но и подготовиться к глобальной схватке с англосаксами.
Что касается Англии, то она, по оценке германского командования, не могла быть на ближайшее время после нападения на СССР сколько-нибудь существенной помехой для Германии. Однако в перспективе, и весьма недалекой, она была способна стать большой угрозой для стратегических позиций Германии в Западной и Южной Европе. Это ставило германское руководство перед необходимостью провести военную кампанию против Советского Союза в минимальные сроки.
В таких условиях чрезвычайно важное значение для Германии приобретала координация стратегических действий с ее союзниками – Японией и Италией. Это было главной целью заключенного 27 сентября 1940 г. Тройственного пакта. Германская дипломатия предпринимала энергичные усилия, чтобы втянуть Японию в активные действия в Юго-Восточной Азии и создать в ее лице противовес Англии и США. Кроме того, нацистское руководство рассчитывало получить от нее поддержку в войне против Советского Союза, в том числе в форме вооруженного выступления на Дальнем Востоке. Эти соображения легли в основу директивы ОКВ № 24 от 5 марта 1941 г. У германского руководства существовали определенные надежды, что быстрый разгром Советского Союза наряду с активным выступлением Японии на стороне Германии настолько изменят расстановку сил на мировой арене в пользу Тройственного пакта, что это вынудит Соединенные Штаты остаться в стороне от войны.
Стремления германской дипломатии втянуть Японию в войну против СССР не увенчались успехом. Японские правящие круги предпочитали не обострять отношений с Советским Союзом, чтобы иметь возможность развивать экспансию в сторону южных морей. С этой целью 13 апреля 1941 г. они пошли на заключение с СССР пакта о нейтралитете, рассчитывая отказаться от него, как только это станет выгодным для Японии.
Гораздо большую заинтересованность германское руководство проявило к привлечению европейских стран к войне против Советского Союза. В первую очередь это касалось Румынии, Финляндии, Венгрии и Болгарии. Нацистская дипломатия проявила большие усилия, чтобы втянуть эти страны в Тройственный пакт. И она добилась здесь крупных успехов. Кроме того, Германия искала сближения с Турцией на антисоветской почве. 18 июня 1941 г. был подписан германо-турецкий пакт о дружбе и ненападении. Гитлер стремился придать войне против СССР характер «крестового похода» и полностью подчинить ресурсы и политику союзников достижению своих стратегических целей.
В Западной Европе германское руководство не видело на ближайшее время серьезной угрозы для себя. Франция – этот традиционный геополитический и военный противовес Германии на европейской арене – была повержена, расчленена и бессильна что-либо принять, как отмечал Гитлер 9 января 1941 г. На случай возможных осложнений на Западе предусматривалось ввести в действие план «Аттила» – оккупацию вишистской части Франции. Скандинавия и Балканы находились под пятой «оси». Испания и Турция занимали позиции дружественного по отношению к Германии нейтралитета.
В целом руководство Германии оценивало глобальную и европейскую политическую ситуацию как исключительно выгодную для войны против СССР. «Ныне, – говорил Гитлер на совещании генералитета 30 марта 1941 г. – существует возможность разбить Россию, имея свободный тыл. Эта возможность так скоро не появится вновь. Я был бы преступником перед немецким народом, если бы не воспользовался этим».
Подобные политико-стратегические калькуляции, зыбкие и авантюристичные в своей основе, исходили из главной порочной предпосылки – неверной оценки политической прочности и военно-экономического могущества Советского Союза и стойкости русского народа. Выступая на совещании руководителей вермахта 9 января 1941 г., Гитлер говорил, что «русские вооруженные силы – глиняный колосс без головы» Близки к этому мнению были и другие руководители вермахта. Главнокомандующий сухопутных войск Браухич, например, так рисовал перед генералами на совещании 30 апреля 1941 г. картину военных действий на Восточном фронте: «Предположительно крупные приграничные сражения, продолжительностью до 4 недель. В дальнейшем следует ожидать лишь незначительного сопротивления». Предвзятость оказала роковое воздействие на стратегию Гитлера, лишив ее возможности трезво учитывать совокупность основных факторов и условий ведения войны, взятых такими, какими они были в действительности.
Исходя из оценки общего стратегического положения и сил советского государства, германское руководство положило в основу планирования войны против СССР требование максимально быстрого, молниеносного разгрома его вооруженных сил, до того как Англия и Соединенные Штаты сумеют прийти им на помощь. Характерно в этом отношении высказывание фельдмаршала Кейтеля: «При разработке оперативно-стратегического плана войны на Востоке я исходил из следующих предпосылок:
а) исключительные размеры территории России делают абсолютно невозможным ее полное завоевание;
б) для достижения победы в войне против СССР достаточно достигнуть
важнейшего оперативно-стратегического рубежа, а именно линии Ленинград – Москва – Сталинград – Кавказ, что исключит для России практическую возможность оказывать военное сопротивление, так как армия будет отрезана от своих важнейших баз, в первую очередь от нефти;
в) для разрешения этой задачи необходим быстрый разгром Красной Армии, который должен быть проведен в сроки, не допускающие возможности возникновения войны на два фронта».
Нацистская стратегия придавала фактору времени столь большое значение, что Гитлер настаивал в июле 1940 г. напасть на Советский Союз осенью этого же года. Однако Кейтель и Йодль сочли этот срок совершенно нереальным, ввиду неподготовленности вооруженных сил, районов сосредоточения и развертывания войск, и не подходящим с точки зрения метеорологических условий.
22 июля главнокомандующий сухопутными войсками Браухич после совещания у Гитлера дал указание генеральному штабу сухопутных войск начать разработку плана нападения на Советский Союз. По заданию Гальдера начальник отдела иностранных армий Востока полковник Кинцель занялся исследованием вопроса о наиболее целесообразном направлении главных ударов с точки зрения характера и численности группировки советских войск. Он пришел к выводу, что наступление следует вести в направлении Москвы с севера, примыкая к побережью Балтийского моря, чтобы затем, осуществив громадный стратегический охват на юг, заставить советские войска на Украине сражаться с перевернутым фронтом.
Еще ранее, в конце июля начальнику штаба перебрасывавшейся на Восток 18-й армии генерал-майору Марксу было поручено разработать оперативно-стратегический план военной кампании против Советского Союза. 5 августа он представил Гальдеру законченную оперативно-стратегическую разработку, получившую наименование «ПланФриц». В ней намечались два основных стратегических направления – московское и киевское: «Главный удар сухопутных сил должен быть направлен из Северной Польши и Восточной Пруссии на Москву». Когда с идеями Маркса ознакомили немецкого военного атташе в Советском Союзе генерала Э. Кестринга, он выразил несогласие с тем, что взятие Москвы будет иметь решающее значение для победы над Красной Армией. По его мнению, наличие сильной промышленной базы на Урале позволило бы Советскому Союзу продолжать активное сопротивление, искусно используя имеющиеся и вновь созданные коммуникации. В последующих спорах с главным командованием сухопутных войск (ОКХ) о ведении операций на Востоке эти соображения Кестринга заняли определенное место в аргументации Гитлера и руководителей верховного главнокомандования (ОКВ).
В начале сентября на первого обер-квартирмейстера и постоянного заместителя начальника генерального штаба генерал-майора Паулюса была возложена задача, основываясь на плане Маркса, разработать соображения относительно группировки войск для войны против Советского Союза и порядка их стратегического сосредоточения и развертывания. К 17 сентября он закончил эту работу, после чего ему поручили обобщить все результаты предварительного оперативно-стратегического планирования. Это вылилось в докладную записку Паулюса от 29 октября. На ее основе оперативный отдел генерального штаба составил проект директивы по стратегическому сосредоточению и развертыванию «Ост». Независимо от генерального штаба сухопутных войск в штабе оперативного руководства ОКВ с начала сентября велась работа по составлению собственного плана войны против СССР. Его идеи существенно отличались от планов ОКХ.
В ноябре-декабре генеральный штаб сухопутных войск продолжал уточнение и проигрывание на штабных учениях вопросов о главных стратегических направлениях, о распределении сил и средств для наступления, а также согласовывал результаты этой работы со штабом верховного главнокомандования и Гитлером«Изучение всех этих вопросов, – писал генерал Филиппи, – подтвердило прежде всего мнение, что в ходе операций на все более расширяющейся, подобно воронке, к востоку территории не хватит немецких сил, если не удастся решающим образом сломить силу русского сопротивления до линии Киев – Минск – Чудское озеро».
5 декабря генерал начальник генерального штаба Гальдер изложил перед Гитлером основы планируемой военной кампании. Теперь уже окончательно вырисовывались три стратегических направления – ленинградское, московское и киевское. Главный удар Гальдер предлагал нанести севернее Припятской области из района Варшавы на Москву. Проведение операций намечалось силами 105 пехотных, 32 танковых и моторизованных дивизий. Кроме того, предусматривалось использование вооруженных сил Румынии и Финляндии. Для сосредоточения и развертывания этих сил Гальдер считал необходимым восемь недель. Он указал, что с первых чисел апреля или самое позднее с середины этого месяца скрыть от Советского Союза подготовку Германии к войне станет уже невозможно.
Гитлер, одобрив в принципе этот план, заметил, что последующая задача состоит в том, чтобы после раскола советского фронта в центре и выхода к Днепру на московском направлении осуществить поворот части сил главной центральной группировки на север и разгромить во взаимодействии с северной группировкой советские войска в Прибалтике. Наряду с этим он предлагал в качестве первостепенной задачи разгром всей южной группировки советских войск на Украине. Только после выполнения этих стратегических задач на флангах фронта, в результате чего Советский Союз оказался бы изолированным от Балтийского и Черного морей и лишился бы важнейших экономических районов, он считал возможным приступить к взятию Москвы
Таким образом, еще в ходе планирования войны против СССР в германском командовании выявился разный подход к решению важнейших стратегических задач. Первую линию (концепция «концентрического наступления» на Москву) представлял генеральный штаб сухопутных войск, вторую (наступление по расходящимся направлениям), которой придерживался и Гитлер, – штаб ОКB.
Для Гитлера решающее значение имел захват сырьевых и продовольственных ресурсов Советского Союза. Вероятно, и Геринг сыграл немалую роль в том, чтобы разжечь в нём стремление к достижению военно-экономических целей. В качестве председателя совета министров по «обороне» империи он потребовал в ноябре 1940 г. от начальника военно-экономического управления штаба ОКБ генерала Томаса составить для него доклад, в котором бы выдвигалось требование быстрого овладения европейской частью России в связи с обострением продовольственного положения империи и ее трудностей с сырьем. Особенно в нем подчеркивалась необходимость «захватить неразрушенными ценные русские экономические районы на Украине и нефтяные источники Кавказа».
Так или иначе, точка зрения штаба ОКВ возобладала и нашла свое отражение в окончательной директиве № 21 верховного главнокомандования, подписанной Гитлером 18 декабря и получившей кодовое наименование «Барбаросса», которое как бы придавало войне символический смысл крестового похода.
В директиве говорилось, что после рассечения советского фронта в Белоруссии основной немецкой группировкой, наступающей из района Варшавы, создадутся «предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на север с тем, чтобы во взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям по взятию Москвы – важного центра коммуникаций и военной промышленности». На юге планировалось «своевременно занять важный в военном и экономическом отношении Донецкий бассейн».
17 декабря Гитлер в беседе с Йодлем по плану «Барбаросса» особо подчеркнул , что в 1941 г. вермахт должен решить «все континентальные проблемы в Европе, так как после 1942 г. США будут в состоянии вступить в войну».Следовательно, основная цель плана «Барбаросса» состояла в том, чтобы разбить советские вооруженные силы в одной скоротечной кампании. Директива № 21 требовала закончить подготовку к нападению на Советский Союз к 15 мая 1941 г.
Многие бывшие генералы вермахта и военные историки ФРГ пытались выдать решение Гитлера наступать на Москву только после разгрома советских войск в Прибалтике и на Украине за основной и единственный порок плана «Барбаросса». Они называли это решение «несовместимым с оперативными требованиями».Но нельзя сводить порочность плана «Барбаросса» только к вопросу о захвате Москвы. С тем же правом можно было бы сейчас сказать, что наступление на Москву представлялось невозможным без ликвидации угрозы со стороны фланговых стратегических группировок советских войск. Главное здесь заключается в том, что план «Барбаросса» был превыше сил вермахта, а потому оказался авантюристичным, порочным в своей основе. На совещании Гальдера с командующим армии резерва генералом Фроммом 28 января 1941 г. было установлено, что подготовленных людских резервов для восполнения потерь в войне против СССР хватит лишь до осени 1941 г., а снабжение горючим вызывает серьезные опасения. Войска совершенно не готовились к ведению действий в зимних условиях. Когда ОКХ представило в верховное главнокомандование свои соображения об обеспечении армии зимним обмундированием, Гитлер отклонил их на том основании, что «Восточный поход» должен закончиться до наступления зимы. Эти зловещие факты не получили правильной оценки со стороны германского генералитета. На совещании командующих группами армий и армиями у Гальдера 14 декабря 1940 г., где подводились итоги штабных игр по плану нападения на Советский Союз, был сделан единодушный вывод, что Красная Армия будет разбита в скоротечной кампании, которая займет не более 8–10 недель.
31 января ОКХ отдало на основе плана «Барбаросса» директиву по стратегическому сосредоточению и развертыванию. Для ведения операций создавались три группы армий: «Север», «Центр» и «Юг». Перед ними была поставлена задача рассечь глубокими танковыми клиньями главные силы Красной Армии, находившиеся в западной части Советского Союза, и уничтожить их, воспрепятствовав отходу боеспособных войск в «глубину русского пространства».
Для выполнения плана «Барбаросса» были развернуты громадные вооруженные силы. К июню 1941 г. они насчитывали в целом 7 234 тыс. человек. Из них в сухопутных войсках и армии резерва было 5 млн человек, в ВВС – 1680 тыс., в ВМС – 404 тыс., в войсках СС – 150 тыс. человек. К моменту нападения на СССР в сухопутных войсках было 209 дивизий. Из них для выполнения плана «Барбаросса» были выделены 152 дивизии и две бригады. Кроме того, страны – сателлиты Германии выставили против СССР 29 дивизий (16 финских, 13 румынских) и 16 бригад (три финские, девять румынских и четыре венгерские), в которых числилось в общей сложности 900 тыс. солдат и офицеров.
Основные силы были сосредоточены в группе армий «Центр», которая имела задачу расколоть советский фронт стратегической обороны. Главная ставка делалась на сокрушающую мощь внезапного удара массированными силами танков, пехоты и авиации и на их молниеносный бросок к важнейшим центрам Советского Союза. Для поддержки сухопутных войск, действовавших против Красной Армии, было выделено четыре воздушных флота. Кроме того, сателлиты Германии выставили против Красной Армии около 1 тыс. самолетов.
Для скрытия подготовки нападения на Советский Кейтель издал 15 февраля 1941 г. специальную директиву по дезинформации противника. Когда скрыть подготовку станет уже невозможно, стратегическое развертывание сил для операции «Барбаросса» должно было быть представлено в свете величайшего в истории войн дезинформационного маневра с целью «отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию». Командование вермахта распространяло дезинформационные сведения о несуществующем «авиадесантном корпусе», прикомандировало к войскам переводчиков английского языка, отдало приказ напечатать в массовом количестве топографические материалы по Англии, подготовило «оцепление» определенных районов на побережье Ла-Манша, Па-де-Кале и в Норвегии, разместило на побережье ложные «ракетные батареи» и пр.
30 апреля срок нападения на Советский Союз был перенесен с 15 мая на 22 июня в связи с операцией по захвату Балкан. К этому времени большая часть войск, участвовавших в овладении Югославией и Грецией, была переброшена в район действий «Барбаросса». Развернутая против СССР группировка противника намного превосходила противостоявшие ей силы Красной Армии. На 21 июня в советских западных округах насчитывалось 2,9 млн человек в составе всех видов вооруженных сил и родов войск. Против них было выставлено в одних сухопутных войсках Германии (с учетом армий сателлитов) около 4,2 млн человек. К моменту нападения на Советский Союз Гитлер располагал громадными военно-политическими и экономическими преимуществами. Вся Западная, Северная и Южная Европа, за исключением Англии, лежала с ее экономическими и людскими ресурсами у его ног.
В результате заключения с Гитлером пакта о ненападении в августе 1939 г. Сталин поставил Советский Союз вплоть до 22 июня 1941 г. в положение полной международной изоляции. С этим были связаны и другие ошибки и просчеты, сыгравшие роковую роль в судьбе советского народа. Пакт позволил Гитлеру обрушить удар вермахта против Франции, не опасаясь за свой тыл на Востоке и вести войну только на одном фронте. После разгрома Германией Франции в мае – июне 1940 г. советская политика должна была сделать все возможное, чтобы решительно пойти на сближение с Англией и США и заключить с ними союз, противопоставленный державам «Оси». Для этого имелись все необходимые условия. Вместо этого Сталин предпочел дальнейшее сотрудничество с Гитлером. Из Советского Союза в Германию вплоть до 22 июня 1941 г. потоком шли сырье, продовольствие и нефть. И все это, несмотря на то что в Москву по различным каналам – и от Черчилля, и от Бенеша, и от собственной разведки, и от других источников – текла достоверная информация о том, что Германия изготовилась к войне против Советского Союза.
Но И. Сталин полностью игнорировал эти предупреждения, он отмахивался от них. А в высших военных и государственных структурах не нашлось ни одного человека, который бы нашел в себе мужество обрисовать перед ним реальное положение вещей и смертельную опасность, нависшую над страной. Все подстраивались под мнение И. Сталина, только бы не впасть в немилость вождя. 14 июня 1941 г., за неделю до начала нацистской агрессии, ТАСС опубликовал в центральных органах печати особое заявление, в котором по уполномочию советского правительства возвещалось, что слухи о якобы готовящемся нападении Германии на Советский Союз лишены оснований. Это заявление дезориентировало народ и армию, дорого обошлось стране. Вооруженные силы страны не были своевременно приведены в готовность к отражению агрессии. За дилетантизм и роковые ошибки Сталина советскому народу пришлось тяжело расплачиваться своей кровью.
Немецким войскам удалось до конца 1941 г. выйти вплотную к Ленинграду и Москве, захватить почти всю Украину. Но на этом все политические, стратегические и экономические расчеты Гитлера и его генералов, основанные на «молниеносной войне» по плану «Барбаросса», рухнули. Советский народ, государственные органы и военное командование сумели быстро оправиться от первых тяжелых поражений и в упорных боях остановить наступление вермахта. Еще в середине октября Гитлер говорил своим приближенным: «22 июня мы распахнули дверь, не зная, что за ней находится».
Декабрьское контрнаступление Красной Армии впервые с начала Второй мировой войны заставило германское командование перейти к стратегической обороне по приказу ставки Гитлера от 8 декабря 1941 г. Основная цель плана «Барбаросса» – «разбить Советскую Россию в ходе кратковременной молниеносной кампании» – не была достигнута. Перед Германией возникла перспектива затяжной войны, в которой у нее не было никаких шансов на победу.
Готовясь к борьбе за господство в Европе, гитлеровское руководство постаралось сделать все возможное, чтобы избавить вермахт от необходимости вести войну на два фронта. Благодаря пакту Молотова – Риббентропа, заключенному 23 августа 1939 г., оно добилось нейтралитета Советского Союза для проведения военных кампаний на Западе. Это позволило военной машине Гитлера без труда расправиться с Францией. Казалось, сбылись самые смелые мечты германских генштабистов: путь для военного похода на Восток был открыт. Но после 22 июня 1941 г. для них случилось совершенно непостижимое. Германия оказалась неспособной одержать победу только на одном советско-германском фронте! До высадки западных союзников в Нормандии в 1944 г. вермахт в единоборстве с Советской Армией потерпел сокрушительное поражение. Судьба Второй мировой войны и фашистской Германии была решена на полях сражений в Советском Союзе.
Схватка между фашизмом и социализмом закончилась поражением фашизма с его человеконенавистнической, расистской идеологией. Из опыта Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом вытекает и другой важный вывод: всякая политика господства неизбежно обречена на гибель с катастрофическими последствиями для её носителей. В Отечественной войне теснейшим образом переплелись воедино защита советским народом как своей национальной независимости, так и социалистического образа жизни. Полным извращением этой истины служит злопыхательская книга М.Солонина «22 июня, или когда началась Великая Отечественная война» (М., 2006 г.). Автор считает, что из-за «глупой политики Гитлера» отечественный характер война с нашей стороны приобрела лишь несколько месяцев спустя после зловещей даты 22 июня, когда народ понял, что фашистская Германия несет России не освобождение от советской социалистической системы, а национальное закабаление. А до этого, мол, его большинство приветствовало немецкие войска в надежде, что советский строй будет свергнут. Поэтому миллионы солдат Красной Армии в начале войны сдавались в плен или дезертировали. Это полное извращение исторических фактов.
Из истории «европейской смуты» минувшего века напрашивается и общий вывод, актуальный и для наших дней. По глупости политиков европейских держав, болевших синдромом господства и междоусобной борьбы, Европа стала истоком и полем брани трех мировых войн – двух «горячих» и одной «холодной». В результате рокового ослабления её материального и духовного потенциала в этих войнах она проиграла ХХ век заморской державе – США. Находясь за океаном и не испытывая воздействия войн на собственную территорию, США извлекли из противоборства европейских держав громадные геополитические выгоды. В конце концов, это позволили им установить свое господство над Европейским континентом и создать «pax americana»- американский однополярный мир. Но всякому господству приходит конец. Это происходит ныне и с американской гегемонией.
Вячеслав Дашичев